Я знал, что следовало бы ей телеграфировать, но в своем нынешнем состоянии не считал это оправданием. Интуиция должна была ей подсказать, что я возвращаюсь.
Голод одолел меня, я вышел из дому и снова оказался на улице. Пройдя по бульвару Монпарнас в ресторан, я там пообедал.
Я поискал взглядом Хесту или ее друзей, но их нигде не было. Потом я зашел в «Купол» и в «Ротонду», но и там никого из них не повстречал.
Пошел дождь, и он еще усилил чувство бесприютности. Я разгуливал под дождем, надеясь, что заболею, а она вернется и увидит меня, несчастного и исхудавшего, распростертого на постели в бреду, быть может, умирающего… Я приложил руку к боку и кашлянул. Ну вот, я уже болен, я уже страдаю. Я вернулся на улицу Шерш-Миди, размышляя, ждет ли она меня дома, упрекает ли себя, увидев на полу мой чемодан, — мои вещи не распакованы, свет горит.
Но там никого не было, и тишина в комнатах как будто издевалась над моим притворством и фантазиями. Итак, я открыл чемодан и как попало побросал свои вещи на стул. Дойдя до своей рукописи и стихов отца, я сел и долго смотрел в пространство, предаваясь грезам об этапе, который закончился.
Потом я приоткрыл дверцу платяного шкафа и удивился: он выглядел таким опустевшим без моих вещей!
Но постепенно до меня дошло, что он пуст по другой причине: исчезли и ее вещи — платья, которые она носила, теплое пальто, костюм, обычно висевший рядом с моим.
Я заглянул в ящики туалетного столика, и там тоже не было ее вещей: ни щеток и кремов, ни коробочки с пудрой — ничего.
Я стоял посередине комнаты, переводя взгляд с зияющего платяного шкафа на пустой туалетный столик, и силился что-то понять, но мозг у меня был какой-то онемевший и чужой, и все, что я мог, — это тупо смотреть на маленький тюбик израсходованной помады, который вынул из пустого ящика.
Когда я проснулся, через окно в комнату лился дневной свет. Я забыл закрыть ставни перед тем, как уснул. Взглянув на часы, я увидел, что сейчас половина девятого. Я лежал на кровати одетый — так и заснул и проспал до тех пор, пока меня не разбудил утренний свет.
Я вдруг вспомнил, что нахожусь в своей комнате, на улице Шерш-Миди, и рядом со мной нет Хесты. Я сел в кровати и, закурив сигарету, попытался сосредоточиться. Может быть, ей стало одиноко и она живет у Ванды? Может быть, ей стало страшно жить одной в квартире? Я послал ей письмо в первый день приезда в Лондон, а после этого не писал. Она же должна знать, что я не люблю писать письма, и, конечно, не ожидала, что я буду писать каждый день. Она знала, что я вернусь. Остальное не имело значения. Я даже не потрудился сообщить ей адрес своего отеля. Не думал, что это важно. Мы же знаем друг друга. Она будет ждать, и я вернусь. Вот и все. Это же так просто!
Да, конечно, она у Ванды. Они где-нибудь устроили вечеринку. Хеста думает, что я еще в Лондоне.
Я встал, неуверенный и встревоженный, и, широко распахнув окно, выглянул на улицу, как будто ожидал, что она стоит там, глядя на меня, и машет рукой. Но на улице ее не было — только женщина подметала щеткой ступени магазина да издалека доносился шум уличного движения.
Я начал бриться, глядя на незнакомое лицо в зеркале, — это лицо не было моим. Во мне росло чувство тревоги, оно крепко держало меня холодными руками, так что меня начало трясти.
Я услышал, как на улице загудело такси, этот звук все приближался. Взвизгнули тормоза — оно остановилось на тротуаре перед домом.
Я замер на месте с кисточкой для бритья в руке.
Внизу хлопнула дверь, и послышались шаги на лестнице. Однако такси не уехало, оно осталось на том же месте. Интересно, почему она не отпустила такси? Дверь соседней комнаты открылась, и я услышал, как она там ходит. Она не зашла в спальню. С минуту поколебавшись, я подошел к двери. Мыльная пена таяла у меня на лице, в руках я все еще держал кисточку.
Хеста склонилась над столиком. Я не видел, что она делает, и ждал, не зная, должен ли заговорить. Внезапно она обернулась через плечо, и взгляд ее приковался ко мне.
Мы молча смотрели друг на друга.
— Ты вернулся, — наконец сказала она, и голос ее как-то странно замер.
— Да, — ответил я.
Я улыбнулся, а потом направился к ней, недоумевая, отчего это мы так неестественно держимся друг с другом.
— Я вернулся вчера вечером, — сообщил я. — Ломал голову, куда это ты подевалась.
Я увидел у нее в руках лист бумаги. Она положила его, и я увидел, что он чистый. Потом лист медленно опустился на пол.
— Я как раз собиралась написать тебе письмо, — сказала она.
— Но я же не дал тебе своего адреса в Лондоне, — заметил я. — Это было глупо с моей стороны, он мог тебе понадобиться на случай, если бы что-нибудь произошло.
Потом я удивился: зачем же ей писать мне письмо, если она не знает, куда его посылать?
— Ты же, в любом случае, не могла бы его отправить, — сказал я.
— Я собиралась оставить его здесь для тебя, — ответила она.
Я нахмурился, озадаченный ее словами:
— Не понимаю, зачем это тебе понадобилось.
Она встала и подошла к камину. Взяла в руки маленькую безделушку, потом поставила на место. У нее было какое-то другое лицо, странное и напряженное. И тогда я понял, что мне пора задать вопрос, что я больше не могу притворяться перед собой, будто все в порядке.
— Что случилось? — спросил я.
Она посмотрела мне в лицо, и во взгляде ее была растерянность.
— Тебе не следовало уезжать, — ответила она. — Я же тебе говорила, а ты не слушал. Тебе не следовало уезжать…
Мыльная пена уже засохла у меня на лице, но я не стирал ее.
Я подошел, чтобы ее обнять, но она покачала головой и оттолкнула меня.
— Нет, — возразила она, — это ни к чему.
Голос ее прозвучал резко, она смотрела мимо меня.
— Скажи мне, — попросил я и потрогал ее платье, не глядя на Хесту.
Она немного помолчала, словно подыскивая слова, а когда заговорила, то казалось, что это говорит не она, а кто-то другой.
— Мы больше не будем продолжать, — сказала она, — мы дошли до самого конца.
— Что ты имеешь в виду? — не понял я.
— Нет смысла продолжать, — пояснила она. — Все кончено. Я пришла, чтобы написать тебе об этом. Все кончено.
— Не понимаю, — сказал я и, взяв ее за руку, не отпускал, словно это могло что-то спасти. — Не понимаю, — повторил я.
Она скучным, монотонным голосом продолжала твердить одно и то же:
— Я говорила, чтобы ты не уезжал. Я знала, что тогда может случиться. Бесполезно говорить, что мне жаль. Раньше или позже это должно было произойти. Ты этого не видел, ты просто уехал, и тебе было все равно.
— Ты хочешь сказать, что не любишь меня? — спросил я. — Все кончено, ушло?
— Любовь, — повторила она и засмеялась, пожав плечами. Странный это был смех, непохожий на нее. — Я ничего не знаю о любви, — сказала она, — но то, что было, испорчено, и его не воротишь. Мы больше не принадлежим друг другу, как когда-то. Я ничего не могла поделать, это произошло. Такова жизнь, она странная. Мне жаль. Больше мне нечего сказать.
— Что такое? — спросил я. — Почему мы изменились? — Я не мог поверить, что сказанное ею — правда. Мне казалось, что у нее в голове засела какая-то глупая идея.
— Видишь ли, ты больше не значишь для меня того, что значил когда-то, — ответила она. — Когда-то ты значил для меня все, но теперь я это утратила — того, кем ты был. С тех пор как ты уехал, я была с другим.
— Нет, — сказал я, — нет.
— Да. Мне пришлось, я этого хотела. Ты же знаешь, каково мне было, ты знаешь. Тебе не следовало уезжать.
Я больше не слушал ее. Передо мной стояла картина: она с каким-то мужчиной делает то, что было только нашим.
— Ты же никому не позволила, Хеста, — заговорил я, — не позволила, нет?
— Да… — ответила она.
Я продолжал на нее смотреть.
— Нет, — упорствовал я, — нет, это неправда. Ты же не такая — ты не вульгарная и глупая, ты не из тех, кто отдается кому угодно.
— Это правда.
Я присел на ручку кресла, обхватив голову руками, я пытался придумать какой-то выход из всего этого.
— Нет, — продолжал я, — это неправда, ты лжешь. Это слишком грязно, чертовски грязно. — Я продолжал ей это повторять, пытаясь убедить ее: — Слишком грязно, чертовски грязно.
Казалось, она не понимает.
— Ты когда-то сказал мне, что это ничего не значит, — напомнила она. — Это твои собственные слова: «Это ровным счетом ничего не значит». Здесь, в этой комнате. Когда у нас это случилось в первый раз.
— Это другое, — возразил я, — ты не можешь на это ссылаться, ты не знаешь, что говоришь.
— Тут ничего не попишешь, — сказала она. — Нельзя предотвратить то, что случилось со мной, с нами, с другими людьми. Сначала ты меня заставил, а теперь слишком поздно что-либо менять. Теперь я должна продолжать — я же не могу снова стать такой, какой была когда-то.
— Это Хулио? — спросил я. — Тот парень…
— Да, — ответила она. — Это не имело особого значения, когда ты уехал.
Она сказала это серьезно и спокойно, держа перед собой сжатые руки. Она была холодной, невозмутимой.
— О, дорогая! — воскликнул я. — О, дорогая, дорогая… Что я сделал?..
— Ты не должен расстраиваться, — сказала она. — Сначала я тоже чувствовала себя ужасно. А потом это стало таким естественным, таким неизбежным, да и в любом случае я этого хотела.
Она не понимает, она еще ребенок.
— Ты не должна, — уговаривал я. — Хеста, моя Хеста, ты не понимаешь. Это не пустяки, это начало падения, потери всего, что в тебе прекрасно и совершенно, это начало жизни, которая ведет лишь к беде и унижению…


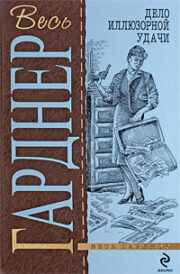
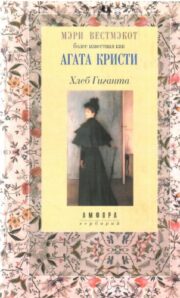
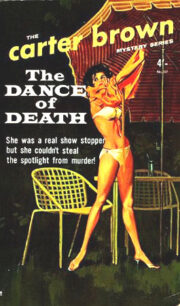
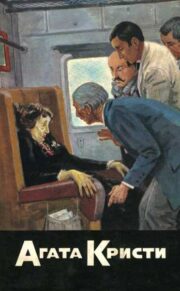
Дафна дю Морье подарила мне понимание того, что молодость не вечна, и мы должны принимать это.
Эта книга помогла мне принять мою возрастную идентичность и принять мою жизнь такой, какой она есть.
Эта книга показывает, как мы меняемся с годами, и как мы должны принимать эти изменения.