Дафна дю Морье
Прощай, молодость
Ну что ж, не будем плакать и роптать.
Ведь прошлое к нам больше не вернется.
Пусть нам с тобой не повезло опять —
Флаг реет на ветру, и город не сдается.
Часть первая
Джейк
Глава первая
Солнце зашло, и на воду легли большие малиновые и золотые полосы. Под мостом они были покрыты рябью — она образовалась в кильватере баржи, находившейся сейчас примерно в двух кабельтовых от меня. Баржа глубоко осела, она везла солидный груз древесины; на мачте трепетал коричневый парус, от которого сейчас не было никакого проку. Не было даже намека на бриз, и баржа вместе с отливом двигалась вниз по течению. Я мог отчетливо разглядеть человека на борту: рука небрежно переброшена через румпель, ноги скрещены, кепка сдвинута на затылок.
Наверное, у него погасла трубка: он резко наклонился, чтобы достать что-то из кармана, придерживая румпель коленом, затем прикрыл трубку ладонями, а спичку выбросил. Я представил себя на его месте, не без интереса наблюдая, как маленькую спичку уносит течением.
На палубе, должно быть, стоял крепкий запах табака и пропитавший баржу особый аромат хорошо высушенной древесины. Руки и одежда мужчины тоже впитали в себя едкий запах смолы и скипидара и горечи сгоревшего обрывка веревки, болтавшегося возле пустой бочки.
Помимо этих знакомых запахов, составлявших часть его жизни, до меня доносилось дыхание реки, неизменное и стародавнее, с илистых отмелей под причалами, с закопченных пакгаузов, с песчаных берегов, усыпанных мусором, который потом уносило отливом, — многочисленные свидетельства жизни в таинственных домах, темные окна которых выходят на нижнюю часть Пула.[1] Никто не выглянет из этих окон. Остро пахнуло от пятна масла, оставленного на поверхности воды каким-то проходившим буксиром.
И когда я смотрел на поднимавшийся над Лондоном дым и видел небо, туманное и оранжевое в конце дня, в душе возникало странное, невероятное предчувствие существующего где-то там, за усталым Сити и за рекой, другого мира, где нет ни темных, неясно вырисовывавшихся в сумерках зданий, ни соседствующей с ними трубы пакгауза, ни шпиля собора Святого Павла, а есть только серое море, и ни клочка земли — безбрежное холодное море с белыми «барашками» под серым небом.
Баржа сделалась едва различимым черным пятнышком среди движущихся по Пулу многочисленных судов, у нее в кильватере вспенивал воду буксир, из трубы которого с резким свистом вырывался дым, а винт кружил воду, когда буксир давал задний ход.
Перила моста были горячими у меня под рукой: солнце за день раскалило железо.
Вцепившись в парапет, я приподнялся и стал вглядываться в воду под мостом.
Пламенеющие краски заката исчезли, и легкая зыбь, еще возникавшая на поверхности, стала тускло-коричневой в тени моста.
Баржа немного отвлекла меня, но как только она скрылась из виду, меня снова охватила тоска, и я не чувствовал ничего, кроме горечи, и желал лишь одного: чтобы поскорее наступила ночь и позволила мне незаметно исчезнуть. Я принялся ждать. Время больше ничего для меня не значило — оно лишь приближало меня к осуществлению моей цели. Прислонившись к парапету, я прикрыл глаза рукой, чтобы не видеть лиц проходивших мимо мужчин и женщин.
Теперь я мог быть уверен, что мои планы не расстроятся из-за минутной слабости, возникшей при виде беспечных прохожих.
Только вот не мог же я оглохнуть и невольно прислушивался к шуму уличного движения на мосту: тяжело катились колеса грузовиков, пронзительно звенел трамвай, направлявшийся в парк, скрежетал тряский автобус, шуршали шины плавно катившихся автомобилей, и по-дурацки дребезжало случайное такси. Я внушал себе, что сами по себе эти звуки ничего не значат, им не отвлечь меня от созерцания реки и не затянуть в свой круг, и как раз в тот момент, когда я продолжал спорить с собой, я услышал голоса женщин, устало бредущих по тротуару; на ходу одна из них коснулась плечом моей спины. Благодаря этому простому прикосновению они вдруг будто вошли в мою жизнь, выделившись из толпы.
Мне так хотелось повернуться к ним и, протянув руки, сказать: «Может быть, вы постоите здесь немного, чтобы я мог слышать ваши голоса? И больше мне ничего не нужно». Возможно, они поняли бы меня. Каким бы нелепым это ни казалось, я страстно желал, чтобы они задержались на минуту, выслушали меня, а потом, приняв в свою компанию, предложили пойти с ними. Они заглянули бы мне в лицо, серьезно и благожелательно, и сказали бы, смущаясь, словно устыдившись своей отзывчивости: «Вы можете пойти с нами, хотя, знаете ли, у нас, там, не бог весть что».
Я пошел бы за ними, держась слегка поодаль, сознавая их превосходство; мы добрались бы до какого-то грязноватого желто-коричневого многоквартирного дома, где от окна к окну тянутся балконы с железными перилами. Была бы здесь и канарейка в высоко подвешенной клетке, и выцветшая ширма со странным узором. Эти женщины, более уверенно чувствовавшие себя дома, захлопотали бы, и стук капель, падающих из крана, или звон чашек и блюдец показались бы мне благословенными знаками дружбы. Я смиренно сидел бы в тихом уголке, щурясь и моргая, когда внезапно вспыхивала бы газовая горелка. Я проникся бы настроением этих людей, разделил их заботы, полюбил бы их друзей, стал преданным слугой, чтобы только не возвращаться больше никогда на этот мост.
Я открыл глаза. Женщины удалялись по тротуару, и я уже едва мог различить их спины в толпе. Они стали подталкивать друг друга, садясь в трамвай.
Они исчезли из моей жизни — того немногого, что у меня еще осталось, — вслед за низким корпусом баржи и мужчиной, перебросившим руку через румпель.
Я вынул из кармана сложенную газету, тщательно разгладил ее и с интересом прочел объявление о мехах.
Казалось, даже буквы подсмеивались надо мной, будто зная, что эти слова уже не могут иметь для меня никакого значения, ведь совсем скоро я стану скрюченной, изуродованной вещью, которую засасывает и кружит бурлящий водоворот Пула, а газета с объявлениями безмятежно поплывет по поверхности воды к какому-то неведомому месту назначения.
Особенно удивительным казалось, что уже после моей смерти со мной будет что-то происходить; быть может, мое тело найдут какие-то люди, которых я никогда не узнаю, вокруг меня будет продолжаться жизнь, а я этого не почувствую.
Скучный обряд похорон — и разложение. По крайней мере, от этих отвратительных реальностей смерти я буду избавлен.
Но как избежать мучительного приближения к уходу и безмолвного ужаса оттого, что покидаешь знакомое, пусть и ненавистное место? Я должен справиться с непосильной задачей: одолеть страх, парализующий меня. Я страшился не последнего взгляда, которым спешно окидываешь все вокруг; пугали не внезапный бросок головой вниз, не головокружительный удар о твердую холодную воду, когда сама река входит в легкие, поднимается в горле, опрокидывая тебя, беспомощно раскинувшего руки, на спину; я вдруг явственно почувствовал, как захлебываюсь и кровь перестает струиться в жилах, — ужасало более всего, что я буду точно знать, что уже ничего нельзя изменить, спасения нет и больше ничего не будет.
Мир бесстрастен и безразличен к моему уходу — эта нелепая мысль терзала меня в такой момент! Вдруг пробудилась собственная плоть и вернулось ощущение собственного тела. Как странно, что в моей власти так быстро их разрушить!
В эти последние минуты я был уже отдален от мира, который еще не покинул. Уже не принадлежал к нему, еще не оторвавшись от него.
Человек, ехавший в автобусе, наверху, с сигаретой во рту, тот, что отвел от лица волосы, — часть этого мира, и он узнает еще много дней и много ночей; и водитель грузовика, с лицом, белым от цемента, перевозивший кирпичи и что-то кричавший своему напарнику. Та девушка со свертками в руках, которая куда-то спешила, посматривая направо и налево. Один за другим они промелькнули в моей памяти, навсегда запечатленные в ней, живые, из плоти и крови — я был уже не вправе к ним прикоснуться. Я завидовал всему: их трапезам, их сну, обрывкам разговора, даже запаху их одежды, пропылившейся за долгий день. Я думал о местах, которые никогда не увижу, и о женщинах, которых никогда не буду любить. Белые волны моря, набегающие на берег, неспешное шуршание листвы, горячий запах травы. Людное кафе, и чей-то смех, и автомобиль, проезжающий по булыжной мостовой. Темная запертая комната и девушка, обвившая руками мою спину и замершая на подушке, на которую падает тень.
Вспомнилось, как в детстве я стоял в поле; мой путь пересек ручей, и желтый ирис рос совсем рядом с зелеными камышами. И я, тогда еще ребенок, размышлял: как странно, что все это не исчезнет после того, как я отсюда уйду, — будто бы после того, как я поверну за угол и ручей скроется из виду, пелена тумана должна была бережно окутать эту картину, пока я снова сюда не вернусь.
Сейчас я ощутил то же самое по отношению к уличному движению и фигуркам людей. Невозможно, чтобы все это продолжалось после моего ухода из мира.
Я снова взглянул вниз, на водоворот под мостом. Бросив туда газету, я наблюдал, как она медленно кружится, попав в воронку, а потом, вялая и трагическая, уносится течением. Загнувшийся уголок, еще не успевший намокнуть, словно взывал ко мне, слабо протестуя.
Я решил, что больше ждать не следует. Людская суматоха и шум, мужчины и женщины, проходившие слишком близко, были так притягательны, что это лишало меня решимости и воли.
Как будто все сговорились не дать мне обрести желанный покой.
Не так я себе представлял все это.



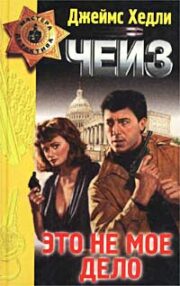
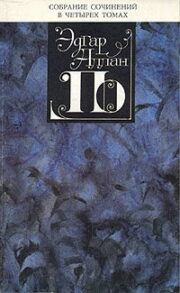
Дафна дю Морье подарила мне понимание того, что молодость не вечна, и мы должны принимать это.
Эта книга помогла мне принять мою возрастную идентичность и принять мою жизнь такой, какой она есть.
Эта книга показывает, как мы меняемся с годами, и как мы должны принимать эти изменения.