Я оставил газеты в гостиной своего отеля, купил юмористический журнал «Лакомые кусочки» и вволю посмеялся над шутками. Потом посмотрел фильм в кинотеатре на Юстон-роуд, в котором хористки щекотали старых джентльменов ниже талии. Рядом со мной сидела проститутка, которая гладила меня по коленке. Я позволял ей это — и вообще было ужасно весело! — и я надеялся, что мой отец продолжит писать свои чертовы стихи. Так зачем же мне расстраиваться?
Однако, хоть я и фланировал потом по улице, сдвинув шляпу на затылок, я не был счастлив. Я зашел в магазин и купил эту книгу, а потом поднялся к себе в комнату, чтобы прочесть ее в одиночестве. А когда читал, то понял: все, что говорилось о нем в газетах, правда. Не было смысла ему сопротивляться, потому что здесь были красота в чистом виде, и разгадка грез, и мука, и экстаз, и все, чего я когда-либо желал, и все, что когда-либо знал. Здесь был трепет самой жизни, удивление и боль, глас одинокой души, вопиющей в пустыне. Он взывал ко мне издалека не как отец, не как человек, но как дух, родственный мне, не имеющий возраста, и как родная душа, и тогда я узнал его, как никогда не знал этого человека из плоти и крови. Он дотянулся до меня с какой-то невообразимой вершины и привлек на свою сторону.
Он написал это в одиночестве, в своей темной библиотеке, а я плавал на корабле, и терял, и любил, и хотя мы не встретились и не поговорили об этих вещах, из-за его стихов мы были близки и понимали друг друга.
Наконец неделя закончилась — я коротал время, гуляя, думая о Хесте и читая. Я утратил свою неприязнь к Лондону, поскольку в нем были какая-то нежность и сила. Вначале он показался неприветливым и суровым, но за мрачным, серым фасадом крылось больше глубины и целеустремленности, нежели за шумом и звоном Парижа. Я чувствовал, что в этом городе есть целостность, которую невозможно нарушить; здесь не будет крови и раскатов грома, смеха и слез — лишь твердое убеждение в здравом смысле мужчин и женщин. Здесь были традиция и старина, а за внешним холодным безразличием — умиротворенность и покой. Я подумал, что нужно будет поговорить с Хестой о Лондоне…
Все воскресенье я представлял себе Грея у него дома, с моей книгой в руках. Я видел, как он переворачивает страницы, шевеля губами. Сначала он просмотрит книгу, а потом пьесу. Поймет ли он, почему я их написал, увидит ли то, что видел я?
Может быть, у него не будет должного настроения. Например, придут друзья к ленчу, потом будут играть в бридж, а потом он зевнет и, опустившись в кресло, скажет: «Пожалуй, нужно взглянуть, что там написал этот молодой человек».
Мне хотелось, чтобы он был серьезен, молчалив, читал медленно и вдумчиво, поздно засиделся у камина, в котором угасал бы огонь, а потом позвал жену: «Я думаю, что сделал открытие». Мне не следует слишком уж фантазировать!
В среду пришло письмо от Грея, написанное им собственноручно. У меня бешено заколотилось сердце, начали дрожать руки. Письмо гласило:
«Мой дорогой Ричард! Не смогли бы Вы встретиться со мной за ленчем завтра, в четверг, в час дня, в „Савое“? Пожалуйста, позвоните моей секретарше и передайте мне, удобно ли это для Вас.
Я подумал, нужно ли телеграфировать Хесте. Лучше подождать, не стоит выставлять себя дураком. В четверг я прибыл в «Савой» без пяти час. Грей пришел один, он никого не привел на встречу со мной.
— Рад, что вы смогли прийти, — сказал он.
Не мог же я сказать ему, что у меня ни в коем случае не могло быть никаких других планов и что я всю неделю жил только ради этой минуты?
Мы уселись за столик у окна.
— Что вы будете есть? — спросил он.
Я изучил меню. Мне было все равно, что есть. Грей сделал заказ, а я выбрал то же, что и он. Я улыбнулся ему, демонстрируя уверенность в себе, но ладони у меня были влажными.
— Я плохо переношу этот холод, а вы? — Он взглянул в окно. — Мне бы сейчас хотелось взять отпуск на месяц и погреться на солнышке где-нибудь на юге. Вот это жизнь! Никаких забот, никаких дел. Вы совсем не знаете Ривьеры?
— Нет, — ответил я, — но мне хотелось бы туда поехать. — Я с трудом запихивал в рот маленькие кусочки жесткого тоста.
— О, вы молоды и еще всё успеете, — сказал он. — Да вы и так настоящий путешественник. Скажите, Стокгольм действительно хорош?
Я понял, что ничего не поделаешь и нужно попытаться принять участие в беседе. Стараясь угодить и боясь показаться скучным, я принялся рассказывать о местах, в которых побывал. Я вспоминал детали, которые, как мне казалось, могли его заинтересовать — цвет зданий, который на самом деле не заметил, — и описывал пейзажи, которые прошли мимо меня.
— Весьма интересно, — заметил он, — весьма интересно. — А время все шло, и он задумчиво пережевывал пищу, и рассказывал забавные истории, и вспоминал прошлое, и мне приходилось смеяться и делать вид, что все это меня занимает. Потом в разговоре возникла пауза, и Грей взглянул на официанта. — Вы принесете два кофе?
Я притих, рассматривая крошку на скатерти.
Он закурил сигару — медленно, ужасно медленно.
— Ну что же, Ричард, — начал он, — я просмотрел ваши рукописи в воскресенье, как и обещал. Повторите мне, пожалуйста, как долго вы их писали?
— Около года, с перерывами, — ответил я.
— Да-да, понятно.
Официант принес кофе. Я принялся размешивать его ложечкой и все мешал и мешал, не отводя взгляда от чашки.
— Я попытаюсь объяснить вам, если смогу, Ричард, что именно я чувствовал, когда читал вашу книгу. С самой первой страницы мне показалось, что над вами довлеет мысль о вашем отце, что его образ постоянно перед вами, и это сковывает вашу собственную личность, и вам никуда не деться от мысли о его величии. Вы понимаете, что я хочу сказать?
— Да, — ответил я.
— Вы писали так, словно хотели быть его эхом, словно вас преследовала его тень, а в результате не получилось ничего похожего на то, что получается у него. У вас вышло искаженное подобие его стиля, какое-то гротескное сходство, странная карикатура. Это фальшиво, Ричард, в вашем произведении нет искренности.
Я продолжал размешивать кофе.
— В середине, — продолжал он, — у вас внезапно изменился настрой. Вы стали собой, а не лихорадочным подражанием, но это ваше «я» не писатель, Ричард, не тот, кто живет в одиночестве и сам контролирует свой талант. Нет, я видел молодого человека, которого швыряет то туда, то сюда, который поддается то одному настроению, то другому, который, быть может, влюблен, не уверен в себе, полон сомнений. Этот молодой человек заставляет себя писать, но он не наделен от рождения талантом. Я говорю это вам, Ричард, потому что считаю, что нужно говорить правду. Я верю, что жизни нужно смотреть прямо в лицо — мы все должны это делать, — а поскольку вы сын своего отца, то не можете закрывать глаза на факты.
Сердце у меня больше не колотилось, я был сдержан и спокоен.
— Вы имеете в виду, что у меня ничего не получилось? — спросил я. — Что мне бесполезно продолжать?
— Я не хочу сделать вам больно, — ответил он, — не хочу показаться безразличным к вам и жестоким. Сможете ли вы писать по прошествии лет, что-то выстрадав, приобретя какой-то опыт, — этого я не могу сказать в данный момент. Думаю, со временем вы обнаружите, что стремление писать, которое появилось у вас в прошлом году, было не более чем проявлением крайней молодости, этапом, который был вам необходим перед наступлением зрелости. Вы начали писать только из-за своего отца. Если бы вы были сыном кого-то другого, то это, возможно, была бы живопись, музыка, игра на сцене — словом, что-то в этом духе. И что бы вы себе ни избрали, у вас бы ничего не получилось, потому что вам было бы не одолеть ваших собственных личных склонностей. Ваш отец сидит в одиночестве, Ричард, он гений, он самодостаточен, ему не нужны никто и ничто, в то время как вы живете и любите, и причиняете себе боль, и вы опечалены или счастливы, и вы не гений, Ричард, вы всего лишь обычный человек. И хотя мои слова кажутся вам сейчас бессердечными, придет день, когда вы будете рады, что я их вам сказал, и тогда вы поймете.
За пальмами оркестр громко заиграл веселую мелодию, и мимо нашего столика прошла смеющаяся женщина, бросив взгляд через плечо.
— Да, — услышал я свой голос. — Да, я понимаю.
— Я пришлю вам в отель вашу рукопись. Вам, конечно, захочется ее сохранить. На пьесу я тоже взглянул, Ричард, но боюсь, что мы ничего не сможем с ней сделать. Если бы я считал, что есть хоть малейшая надежда, я бы предложил вашу книгу одному из менее крупных издательств, но, думаю, они бы сочли ее не отвечающей требованиям, которые предъявляются, дабы книга разошлась хотя бы в умеренных количествах. Конечно, ее могли бы принять из-за вашей фамилии.
— Мне бы этого не хотелось, — возразил я.
— Так я и думал. А теперь скажите мне, Ричард, есть ли у вас какие-нибудь планы на будущее?
Откуда у меня могли быть какие-то планы?
— Не знаю, — ответил я. — Полагаю, что вернусь в Париж.
Он попросил дать ему мой адрес на улице Шерш-Миди и сказал:
— Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы или затруднения, пожалуйста, дайте мне знать. Мне почему-то кажется, что вы уже получили от Парижа все, что вам было нужно. Я думаю, что Лондон — самое подходящее для вас место.
— Может быть, — ответил я.
Он попросил счет. Затем поднялся со стула.
— Куда вы теперь? — осведомился он.
Чтобы избавить его от неловкости, я пробормотал что-то насчет назначенной встречи.
— Я могу подкинуть вас в любое место, — предложил Грей. — У меня на улице машина.
— Нет, большое спасибо, — отказался я.
— Не падайте духом из-за того, что я вам сказал, — подбодрил он меня. — Мне не хочется, чтобы у вас было такое чувство, будто вы потерпели неудачу. Я хочу, чтобы вы рассматривали это как определенный этап, прощание с вашей юностью. Вы созданы для другого, Ричард, для другого. — Он улыбнулся мне, и швейцар открыл дверцу его автомобиля. — Я с радостью сделаю для вас все, что в моих силах, в любое время, — добавил он и пожал мне руку. — До свидания, и желаю удачи.


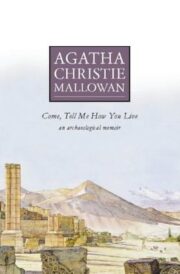


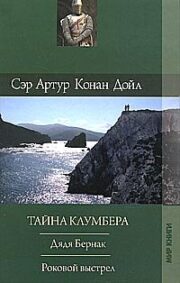
Дафна дю Морье подарила мне понимание того, что молодость не вечна, и мы должны принимать это.
Эта книга помогла мне принять мою возрастную идентичность и принять мою жизнь такой, какой она есть.
Эта книга показывает, как мы меняемся с годами, и как мы должны принимать эти изменения.