У миссис Бигэм Чартерис, явившейся за какими-то брошюрами для распространения, было свое мнение по поводу происшествия в гавани.
— Все же, должно быть, этот Гэбриэл хороших кровей, — заявила она.
— Вы так думаете?
— Уверена.
— Его отец был водопроводчиком.
Миссис Бигэм Чартерис все-таки взяла этот барьер.
— Что-то подобное я подозревала. Однако там все-таки наверняка была хорошая кровь. Может быть, давно, несколько поколений назад.
Она немного помолчала.
— Надо бы почаще приглашать его в замок. Я поговорю с Эделейд. К сожалению, порой она так держится, что иные просто теряются. У нас дома Гэбриэлу просто не удается показать себя в лучшем свете. Хотя лично у меня с ним добрые отношения.
— Похоже, он здесь довольно популярен, — заметил я.
— Да, дела у него, пожалуй, идут неплохо. В общем, это хороший выбор. Партия нуждается в обновлении… Нужна свежая кровь… очень нужна. Знаете, — помолчав вдруг сказала миссис Чартерис, — может быть, он будущий Дизраэли[50].
— Вы полагаете, он далеко пойдет?
— Думаю, он сможет достичь вершины. В нем есть жизненная сила.
Мнение леди Сент-Лу о происшествии в гавани сообщила побывавшая в замке Тереза:
— «Гм!» — сказала леди. «Разумеется, он сделал это с оглядкой на галерку!»
Понятно, почему Гэбриэл называл леди Сент-Лу не иначе, как старой ведьмой.
Глава 8
Стояла прекрасная погода. Я проводил много времени на солнечной террасе, куда вывозили мою каталку. Вдоль террасы тянулись кусты роз, а в одном ее конце поднимался старый-престарый тис. Отсюда мне было видно море и зубчатые стены замка Сент-Лу. Иногда я даже видел, как Изабелла шла через поля из замка в Полнорт-хаус.
У нее вошло в привычку часто приходить к нам. Иногда она приходила одна, иногда с собаками. Улыбнувшись и поздоровавшись, Изабелла садилась на большую резную каменную скамью около моей каталки.
Это была странная дружба. Именно дружба. Не доброта и сочувствие к инвалиду, не жалость или сострадание. С моей точки зрения, это было нечто намного лучшее. Просто мое общество было приятно Изабелле, и она приходила и подолгу сидела в саду подле меня, она делала это с естественностью и непосредственностью животного.
Если мы разговаривали, то чаще всего о том, что видели перед собой: о необычной форме облака, о свете над морем, о птицах…
Именно птица открыла мне еще одну грань в характере Изабеллы. Птица была мертвая. Она, видимо, ударилась головкой об оконное стекло гостиной и теперь лежала на траве под окном: окоченевшие ножки трогательно торчали кверху, ясные глазки были затянуты пленкой.
Изабелла увидела ее первой. Ужас в ее голосе заставил меня вздрогнуть.
— Посмотрите! Птица… мертвая!..
Панические нотки в голосе девушки поразили меня. Она чем-то была похожа на испуганную лошадь; напряженные губы дрожали.
— Поднимите ее, — попросил я.
Изабелла исступленно затрясла головой.
— Не могу…
— Вам неприятно прикасаться к птицам? — спросил я, зная, что некоторым людям такое свойственно.
— Я не могу прикоснуться ни к чему мертвому.
Я удивленно смотрел на нее.
— Я боюсь смерти, — сказала Изабелла. — Ужасно боюсь! Не могу даже подумать о чем-нибудь мертвом. Наверное, потому, что это напоминает — что когда-нибудь я тоже умру.
— Все мы когда-нибудь умрем, — заметил я, думая в этот момент о том, что лежало у меня под рукой.
— Разве вас это не тревожит? Ведь это ужасно! Постоянно думать, что впереди смерть… и все время приближается. И однажды… — красивые стройные руки Изабеллы в драматическом, не свойственном ей жесте прижались к груди, — однажды придет конец… конец жизни!
— Вы странная девушка, Изабелла. Я никогда бы не подумал, что вы это так воспринимаете.
— Счастье, что я не родилась мальчиком, — с горечью сказала она. — В случае войны мне пришлось бы стать солдатом, и я опозорила бы семью: убежала или еще что-нибудь в таком роде. Да, — произнесла она тихо, — ужасно быть трусом…
Я засмеялся, но смех прозвучал как-то неуверенно.
— Не думаю, что в трудный момент вы бы струсили. Большинство людей, по-моему, просто боятся оказаться трусами.
— А вы боялись?
— О Господи, конечно!
— Но когда пришлось… все было в порядке?
Я мысленно обратился к тому моменту напряженного ожидания в темноте… ожидания атаки… сосущее чувство тошноты под ложечкой.
— Нет! — признался я. — Не сказал бы, что все было в порядке. Но я понял, что более или менее справлюсь. Что смогу принять конец не хуже, чем другие. Видите ли, через какое-то время начинаешь чувствовать, что не ты остановишь пулю, а кто-то другой.
— Как вы думаете, у майора Гэбриэла было такое же чувство?
Я воздал Джону Гэбриэлу должное.
— Мне кажется, — сказал я, — что Гэбриэл — один из тех редких и счастливых людей, которым чувство страха просто неведомо.
— Да, я тоже так думаю, — сказала Изабелла. Выражение лица было у нее странное.
Я спросил, всегда ли она боялась смерти. Может быть, этому способствовал какой-нибудь шок.
Она покачала головой.
— Не думаю. Правда, мой отец был убит еще до моего рождения, так что не знаю, могло ли это повлиять…
— Очень возможно.
Изабелла нахмурилась. Ее мысли были в прошлом.
— Когда мне было лет пять, умерла моя канарейка. Накануне вечером она была здорова, а наутро лежала в клетке, вытянув застывшие ножки… как эта птичка. Я взяла канарейку в руку. — Изабелла вздрогнула; она с трудом подбирала слова. — Птичка была холодная… Она… она уже была не настоящая… не видела… не слышала… не чувствовала — ее не было!
Взглянув на меня, она вдруг трогательно, почти жалобно спросила:
— Разве вам не кажется ужасным, что мы должны умереть?
Не знаю, что я должен был сказать. Но вместо обдуманного ответа у меня вырвалась правда… моя личная правда:
— Иногда… это единственное, чего ждет человек.
Она с недоумением смотрела на меня.
— Я не понимаю…
— В самом деле? — с горечью спросил я. — Посмотрите хорошенько, Изабелла! Как вы думаете, что это за жизнь? Вас моют, одевают, поднимают каждое утро, как ребенка, перетаскивают, как мешок с углем… Безжизненный ненужный обрубок, лежащий на солнце… Он ничего не может, у него нет будущего, ему не на что надеяться… Если бы я был сломанным стулом, меня выбросили бы на свалку, но я человек — и меня одевают, прикрывают изуродованное тело пледом и укладывают на солнышке!
Глаза Изабеллы широко раскрылись, в них было замешательство и вопрос. Впервые эти глаза смотрели не на что-то за моей спиной, а прямо на меня, взгляд сосредоточился на мне, но и сейчас она словно не видела, ничего не понимала.
— Но… как бы то ни было, вы — на солнце. Вы живы. Хотя могли погибнуть.
— Вполне. Господи! Неужели вы не понимаете? Мне жаль, что я остался жив!
Нет, она не понимала… Я говорил на непонятном ей языке.
— Вам, — робко спросила она, — вам… все время очень больно?
— Время от времени я испытываю сильную боль, но дело ведь не в этом. Можете вы понять, что мне не для чего жить?
— Но… я знаю, что я глупа… но разве обязательно жить для чего-то? Разве нельзя просто жить?
У меня дух захватило от такого вопроса.
В этот момент я повернулся, вернее, попытался повернуться на каталке; из-за неловкого движения выронил пузырек с надписью «аспирин», который я постоянно держал при себе. Он упал, пробка открылась, и таблетки рассыпались по траве.
Я резко вскрикнул, и сам услышал свой голос, неестественный, истеричный:
— Не дайте им потеряться! О, соберите их… найдите!.. Они не должны потеряться!
Изабелла наклонилась, ловко и быстро собирая таблетки. Повернув голову, я увидел подходившую к нам Терезу и, почти всхлипывая, прошептал:
— Тереза идет!..
И тут, к моему удивлению, Изабелла сделала нечто такое, чего я от нее никак не ожидал. Быстрым и в то же время несуетливым жестом она сняла с шеи цветной шарф, который дополнял ее летний наряд, и он плавно опустился на траву, закрыв разбросанные таблетки… Негромко, спокойным голосом она произнесла:
— …так что, как видите, все может измениться, когда Руперт вернется домой…
Не возникло бы и сомнений, что мы просто продолжаем беседовать.
— Ну как, — подойдя к нам, спросила Тереза, — не хотите ли чего-нибудь выпить?
Я попросил что-то довольно замысловатое. Когда Тереза повернулась, чтобы вернуться в дом, она увидела шарф и наклонилась, чтобы его поднять.
— Пожалуйста, оставьте его, миссис Норрис, — невозмутимо произнесла Изабелла. — Он так хорошо смотрится на траве.
Тереза улыбнулась и вошла в дом. Я во все глаза уставился на Изабеллу.
— Милая девушка, почему вы это сделали?
Изабелла застенчиво посмотрела на меня.
— Мне показалось, что вы не хотели, чтобы она их увидела.
— Вы правы, — мрачно сказал я.
Дело в том, что, едва я стал поправляться, у меня родился план. Я прекрасно понимал свою беспомощность, полную зависимость от других и хотел, чтобы у меня в руках была возможность выхода.
Пока мне делали инъекции морфия, ничего нельзя было предпринять, но пришло время, когда морфий заменили снотворными каплями или таблетками. Тогда-то у меня и появилась эта возможность. Я все время ругался про себя, пока мне давали хлорал[51] в виде капель. Однако позднее, когда я уже был с Робертом и Терезой и стал меньше нуждаться в медицинской помощи, врач прописал снотворные таблетки, кажется секонал, а может быть, амитал. Во всяком случае, теперь я мог попытаться обойтись без таблеток, хотя они всегда лежали наготове на тот случай, если я не смогу заснуть. Я складывал неиспользованные таблетки, и мало-помалу у меня накопился запас. Я продолжал жаловаться на бессонницу, и мне продолжали выписывать таблетки. Долгими ночами я лежал без сна с широко открытыми глазами, испытывая сильную боль, но меня укрепляла и поддерживала мысль, что выход у меня в руках и ворота для ухода открываются все шире, теперь у меня их было более чем достаточно.

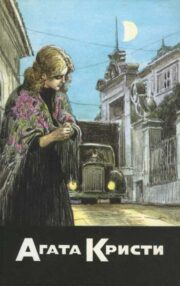




Эта книга Агаты Кристи просто потрясающая! Она показывает нам настоящую силу любви и преданности между матерью и дочерью. Я поражена тем, как Агата Кристи проникает в души героев и показывает их противоречивые чувства и мысли. Она позволяет нам понять, что любовь может быть не только сильной, но и болезненной. Эта книга действительно прекрасна и заставляет нас задуматься о наших отношениях с близкими людьми.