Тут он сплюнул на пол, но даже по тому, как он это сделал, сразу видно было, что он происхождения благородного.
Американский репортер посмотрел на него внимательней. Лицо бледное и рассеянное, лицо человека сильных и опасных страстей, которые еще вырвутся наружу, но при этом умного и легко уязвимого; одежда грубая и небрежная, но духи тонкие, пальцы длинные и на одном – дорогой перстень с печаткой. Зовут его, как выяснилось из разговора, Джеймс Делрой; он сын обанкротившегося ирландского землевладельца и работает в умеренно либеральной газетке «Светское общество», которую от души презирает, хотя и состоит при ней в качестве репортера и, что мучительней всего, почти соглядатая.
Должен с сожалением заметить, что «Светское общество» осталось совершенно равнодушным к спору Боулнойза с Дарвином, спору, который так заинтересовал и взволновал «Солнце Запада», что, конечно, делает ему честь. Делрой приехал, видимо, затем, чтобы разведать, чем пахнет скандал, который вполне мог завершиться в суде по бракоразводным делам, а пока назревал между Серым коттеджем и Пендрегон-парком.
Читателям «Солнца Запада» сэр Клод Чэмпион был известен не хуже мистера Боулнойза. Папа римский и победитель дерби тоже им были известны; но мысль, что они знакомы между собой, показалась бы Кидду столь же несообразной. Он слышал о сэре Клоде Чэмпионе и писал, да еще в таком тоне, словно хорошо его знает, как «об одном из самых блестящих и самых богатых англичан первого десятка»; это замечательный спортсмен, который плавает на яхтах вокруг света; знаменитый путешественник – автор книг о Гималаях, политик, который получил на выборах подавляющее большинство голосов, ошеломив избирателей необычайной идеей консервативной демократии, и в придачу – талантливый любитель-художник, музыкант, литератор и, главное, актер. На взгляд любого человека, только не американца, сэр Клод был личностью поистине великолепной. В его всеобъемлющей культуре и неуемном стремлении к славе было что-то от гигантов эпохи Возрождения; его отличала не только необычайная широта интересов, но и страстная им приверженность. В нем не было ни на волос того верхоглядства, которое мы определяем словом «дилетант».
Фотографии его безупречного орлиного профиля с угольно-черным, точно у итальянца, глазом постоянно появлялись и в «Светском обществе» и в «Солнце Запада» – и всякий сказал бы, что человека этого, подобно огню или даже недугу, снедает честолюбие. Но хотя Кидд немало знал о сэре Клоде, по правде сказать, знал даже то, чего и не было, ему и во сне не снилось, что между столь блестящим аристократом и только-только обнаруженным основателем теории катастроф существует какая-то связь, и, уж конечно, он и помыслить не мог, что сэра Клода Чэмпиона и Джона Боулнойза связывают узы дружбы. И, однако, Делрой уверял, что так оно и есть. В школьные и студенческие годы они были неразлучны, и, несмотря на огромную разницу в общественном положении (Чэмпион крупный землевладелец и чуть ли не миллионер, а Боулнойз бедный ученый, до самого последнего времени вдобавок никому не известный), они и теперь постоянно встречались. И домик Боулнойза стоял у самых ворот Пендрегон-парка.
Но вот надолго ли еще они останутся друзьями – теперь в этом возникали сомнения, грязные сомнения. Года два назад Боулнойз женился на красивой и не лишенной таланта актрисе, которую любил на свой лад – застенчивой и наводящей скуку любовью; соседство Чэмпиона давало этой взбалмошной знаменитости вдоволь поводов к поступкам, которые возбуждали страсти мучительные и довольно низменные. Сэр Клод в совершенстве владел искусством привлекать к себе внимание широкой публики, и, казалось, он получал безумное удовольствие, столь же нарочито выставляя напоказ интригу, которая отнюдь не делала ему чести. Лакеи из Пендрегона беспрестанно отвозили миссис Боулнойз букеты, кареты и автомобили беспрестанно подъезжали к коттеджу за миссис Боулнойз, в имении сэра Клода беспрестанно устраивались балы и маскарады, на которых баронет гордо выставлял перед всеми миссис Боулнойз, точно королеву любви и красоты на рыцарских турнирах. В тот самый вечер, который Кидд избрал для разговора о теории катастроф, сэр Клод Чэмпион устраивал под открытым небом представление «Ромео и Джульетта», причем в роли Ромео должен был выступать он сам, а Джульетту и называть незачем.
– Без столкновения тут не обойдется. – С этими словами рыжий молодой человек встал и встряхнулся. – Старика Боулнойза могли обтесать, или он сам обтесался. Но если он и обтесался, он глуп… уж вовсе дубина. Только я в это не очень верю.
– Это глубокий ум, – проникновенно произнес Кэлхоун Кидд.
– Да, – сказал Делрой, – но даже глубокий ум не может быть таким непроходимым болваном. Вы уже идете? Я тоже сейчас двинусь.
Но Кэлхоун Кидд допил молоко с содовой и быстрым шагом направился к Серому коттеджу, оставив своего циничного осведомителя наедине с виски и табаком. День угасал, небеса были темные, зеленовато-серые, цвета сланца, кое-где уже проглянули звезды, слева небо светлело в предчувствии луны.
Серый коттедж, который, так сказать, засел за высокой прочной изгородью из колючего кустарника, стоял в такой близости от сосен и ограды парка, что поначалу Кидд принял его за домик привратника. Однако, заметив на узкой деревянной калитке имя «Боулнойз» и глянув на часы, он увидел, что время, назначенное «мудрецом», настало, вошел и постучал в парадное. Оказавшись во дворе, он понял, что дом, хотя и достаточно скромный, больше и роскошней, чем представлялось с первого взгляда, и нисколько не похож на сторожку. Собачья конура и улей стояли здесь как привычные символы английской сельской жизни; из-за щедро увешанных плодами грушевых деревьев поднималась луна, пес, вылезший из конуры, имел вид почтенный и явно не желал лаять; и просто одетый пожилой слуга, отворивший дверь, был немногословен, но держался с достоинством.
– Мистер Боулнойз просил передать вам свои извинения, сэр, но он вынужден был неожиданно уйти, – сказал слуга.
– Но послушайте, он же назначил мне свидание, – повысил голос репортер. – А вам известно, куда он пошел?
– В Пендрегон-парк, сэр, – довольно хмуро ответил слуга и стал затворять дверь.
Кидд слегка вздрогнул. И спросил сбивчиво:
– Он пошел с миссис… вместе со всеми?
– Нет, сэр, – коротко ответил слуга. – Он оставался дома, а потом пошел один. – И решительно, даже грубо захлопнул дверь, но вид у него при этом был такой, словно он поступил не так, как надо.
Американца, в котором забавно сочетались дерзость и обидчивость, взяла досада. Ему очень хотелось немного их всех встряхнуть, пусть научатся вести себя по-деловому, – и дряхлого старого пса, и седеющего угрюмого старика дворецкого в допотопной манишке, и сонную старушку луну, а главное рассеянного старого философа, который назначил час, а сам ушел из дома.
– Раз он так себя ведет, поделом ему, он не заслуживает привязанности жены, – сказал мистер Кэлхоун Кидд. – Но, может, он пошел устраивать скандал. Тогда, похоже, представитель «Солнца Запада» будет там очень кстати.
И, выйдя за ворота, он зашагал по длинной аллее погребальных сосен, ведущей в глубь парка. Деревья чернели ровной вереницей, словно плюмажи на катафалке, а меж ними в небе светили звезды. Кидд был из тех людей, кто воспринимает природу не непосредственно, а через литературу, и ему все вспоминался «Рейвенсвуд». Виной тому отчасти были чернеющие, как вороново крыло, мрачные сосны, а отчасти и непередаваемо жуткое ощущение, которое Вальтеру Скотту почти удалось передать в его знаменитой трагедии; тут веяло чем-то, что умерло в восемнадцатом веке; веяло пронизывающей сыростью старого парка, и разрушенных гробниц, и зла, которое уже вовек не поправить, – чем-то неизбывно печальным, хотя и странно нереальным.
Он шел по этой строгой черной аллее, искусно настраивающей на трагический лад, и не раз испуганно останавливался: ему чудились впереди чьи-то шаги. Но впереди видны были только две одинаковые мрачные стены сосен да над ними клин усыпанного звездами неба. Сначала он подумал, что это игра воображения или что его обманывает эхо его собственных шагов. Но чем дальше, тем определеннее остатки разума склоняли его к мысли, что впереди в самом деле шагает кто-то еще. Смутно подумалось: уж не призрак ли там, и он даже удивился – так быстро представилось ему вполне подходящее для этих мест привидение: с лицом белым, как у Пьеро, только в черных пятнах. Вершина темно-синего небесного треугольника становилась все ярче и светлей, но Кидд еще не понимал, что это все ближе огни, которыми освещены огромный дом и сад. Он лишь все явственней ощущал вокруг что-то недоброе, все сильней его пронизывали токи ожесточения и тайны, все сильней охватывало предчувствие… он не сразу подыскал слово и наконец со смешком его произнес – катастрофы.
Еще сосны, еще кусок дороги остались позади, и вдруг он замер на месте, словно волшебством внезапно обращенный в камень. Бессмысленно говорить, будто он почувствовал, что все это происходит во сне; нет, на сей раз он ясно почувствовал, что сам угодил в какую-то книгу. Ибо мы, люди, привыкли ко всяким нелепостям, привыкли к вопиющим несообразностям; под их разноголосицу мы засыпаем. Если же случится что-нибудь вполне сообразное с обстоятельствами, мы пробуждаемся, словно вдруг зазвенела какая-то до боли прекрасная струна. Случилось нечто, чему впору было случиться в такой вот аллее на страницах какой-нибудь старинной повести.
За черной сосной пролетела, блеснув в лунном свете, обнаженная шпага – такой тонкой сверкающей рапирой в этом древнем парке могли драться на многих поединках. Шпага упала на дорогу далеко впереди и лежала, сияя, точно огромная игла. Кидд метнулся, как заяц, и склонился над ней. Вблизи шпага выглядела как-то уж очень безвкусно; большие рубины на эфесе вызывали некоторое сомнение. Зато другие красные капли, на клинке, сомнений не вызывали.
Кидд как ужаленный обернулся в ту сторону, откуда прилетел ослепительный смертоносный снаряд, – в этом месте траурно-черную стену сосен рассекла узкая дорожка; Кидд пошел по ней, и глазам его открылся длинный, ярко освещенный дом, а перед домом – озеро и фонтаны. Но Кидд не стал на все это смотреть, ибо увидел нечто более достойное внимания.


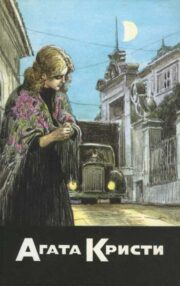


"Мудрость отца Брауна (рассказы)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мудрость отца Брауна (рассказы)", автор: Гилберт Кийт Честертон. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мудрость отца Брауна (рассказы)" друзьям в соцсетях.