– Узнать я успею, а пока мое дело – бороться, – отвечал неумолимый политик.
– Как по-вашему, – спросила она, – есть ли право на счастье?
Он засмеялся, и они вышли на пыльную дорогу, ведущую в Милдайк.
Глава 19.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОН КИХОТА
Быть может, когда-нибудь расскажут, как новый Дон Кихот и новый Санчо Панса бродили по английским дорогам. Холодный и насмешливый взор англичан видел лишь кеб, ползущий сквозь сцены и пейзажи, в которых кебы редко увидишь. Но вдохновенный летописец мог бы порассказать, как вознице и седоку удавалось утешать угнетенных. Он поведал бы о том, как они подвозили бродяг и катали детей; о том, как они обращали кеб и в передвижной ларек, и в шатер, и в купальню; о том, как простые душой кальвинисты принимали его за бродячую кафедру и слушали поучительные проповеди Дугласа Мэррела; о том, как Мэррел вторил Херну, читавшему лекции по истории, разъясняя неясное и собирая деньги к неудовольствию лектора. Возможно, рыцарю и оруженосцу не хватало важности, но добро они творили. К ним вязалась полиция, а это само по себе свидетельствует о праведности; они бросали вызов только тем, кто сильнее; и Херн понемногу убеждался, что общественную пользу приносит лишь частная борьба. Он был и печальней, и в своем роде мудрее оруженосца, и в долгих беседах доказывал ему, что Дон Кихоту пора вернуться. Особенно долгой была их беседа в холмах Сассекса.
– Говорят, что я отстал от века, – сказал Херн, – и живу во времена, о которых грезил Дон Кихот. Но сами они тоже отстали столетия на три и живут во времена, когда Сервантес грезил о Дон Кихоте. Они застряли в Возрождении. Тогда казалось, что многое рождается заново; но ребенок трехсот лет от роду немного недоразвит. Ему надо бы родиться еще раз, в ином обличье.
– Почему же, – спросил Мэррел, – он должен родиться в обличье странствующего рыцаря?
– Что тут невозможного? – в свою очередь спросил Херн. – Человек Возрождения родился в облике древнего грека. Сервантес считал, что романтика гибнет, и место ее занимает разум. Сейчас гибнет разум, и старость его более убога, чем старость романтики. Нам нужно проще и прямее бороться со злом. Нам нужен человек, который верит в бой с великанами.
– И бьется с мельницами, – сказал Мэррел.
– Вы никогда не думали, – спросил Херн, – как было бы хорошо, если бы он их победил? Ошибался он в одном: надо было биться с мельниками. Мельник был средневековым буржуа, он породил наш средний класс. Мельницы – начаток фабрик и заводов, омрачивших нынешнюю жизнь. Сервантес свидетельствует против самого себя. Так и с другими его примерами. Дон Кихот освободил пленников, а они оказались ворами. Теперь нельзя так ошибиться. Теперь в кандалах нищие, воры – на свободе.
– Вы не думаете, – спросил Мэррел, – что современная жизнь слишком сложна, чтобы подходить к ней так просто?
– Я думаю, – отвечал Херн, – что современная жизнь слишком сложна, чтобы подходить к ней сложно.
Он встал и принялся шагать по дороге. Взгляд у него был отрешенный и огненный, как у его прототипа, и говорил он с трудом.
– Как вы не поймете? – вопрошал он. – В этом вся суть. Ваша техника стала такой бесчеловечной, что уподобилась природе. Да, она стала второй природой, далекой, жестокой, равнодушной. Рыцарь снова блуждает в лесу, только вместо деревьев – трубы. Ваша мертвая система так огромна, что никто не знает, где и как она сломается. Все рассчитано, и потому ничего нельзя рассчитать. Вы приковали человека к чудовищным орудиям, вы оправдали наваждение Дон Кихота: мельницы ваши – великаны.
– Есть ли выход? – спросил его друг.
– Да, – ответил Херн. – Вы сами нашли его. Когда вы увидели, что врач безумнее пациента, вы не рассуждали о системах. Вы не Санчо Панса. Вы тот, другой.
Он простер вперед руку, как в былое время.
– Что я сказал с трона, скажу у дороги. Только вы родились снова. Вы – возвратившийся рыцарь.
Дуглас Мэррел сильно смутился. Должно быть, лишь эти слова могли вырвать у него признание, ибо под шутовством его лежала сдержанность, более глубокая, чем сдержанность его касты. Он несмело взглянул на Херна и сказал:
– Вот что, вы не очень мне верьте. Не такой уж я рыцарь. Надеюсь, я помог старому ослу, но мне понравилась девушка… очень понравилась.
– Вы сказали ей об этом? – прямо, как всегда, спросил Херн.
– Как же я мог? – удивился Мэррел. – Она ведь была мне обязана.
– Дорогой Мэррел! – воскликнул Херн. – Это чистое донкихотство!
Мэррел вскочил и засмеялся.
– Вот лучшая шутка за три столетия! – вскричал он.
– Не вижу, в чем тут шутка, – задумался Херн. – Разве можно пошутить нечаянно? Что же до ваших слов, не думаете ли вы, что по кодексу самообуздания вы уже вправе попытаться? Вы хотели бы… вернуться на Запад?
Мэррел снова смутился.
– Откровенно говоря, я избегал тех мест, – сказал он. – Я думал, и вы…
– Да, – сказал Херн. —Я долго не мог глядеть в ту сторону. Мне хотелось повернуться спиной к западному ветру, и закат жег меня, как раскаленное железо. Но с годами становишься мудрей, если и не станешь веселее. Сам я не мог бы пойти туда, но я был бы рад узнать… обо всех.
– Если вы поедете со мной, – сказал Мэррел, – я пойду и все разузнаю.
– Вы сможете, – почти робко спросил Херн, – войти… в Сивудское аббатство?
– Да, – сказал Мэррел. – В другой дом мне было бы труднее войти.
Немногословно, хотя и не совсем молчаливо, они решили, как и что делать дальше; и вскоре увидели то, чего боялись так долго – зеленые уступы, деревья и готические крыши, освещенные вечерним солнцем. И совсем уж нечего было говорить, когда Майкл спрыгнул с коня и взглянул на друга через плечо. Тот кивнул и пошел легким шагом по крутой тропинке. Сад был такой же, как прежде, разве что аккуратней и тише; но главные ворота были заперты.
Мэррел не страдал суеверием, но ему стало не по себе, когда он впервые в них постучался, а потом позвонил в колокол. Ему казалось, что это сон; еще ему казалось, что близко пробуждение. Но какими бы странными ни были его предчувствия, действительность их превзошла.
Примерно через полчаса он вышел из ворот и спокойно направился вниз, но друг почувствовал что-то странное в его спокойствии. Заговорил Мэррел не сразу.
– Странная штука случилась с аббатством, – сказал он. – Оно не сгорело, вон, стоит и даже лучше выглядит, чем прежде. В материальном, метеорологическом смысле его не поразил гром небесный. Но с ним случилась странная штука.
– Что же с ним? – спросил Херн.
– Оно стало аббатством, – отвечал Мэррел.
– Что вы хотите сказать? – вскричал его друг.
– То, что сказал. Оно стало аббатством. Я говорил с аббатом. Хотя он и ушел от мира, он поведал мне много новостей, потому что знает тех, кто жил тут раньше.
– Значит, здесь монастырь, – сказал Херн. – Что же поведал аббат?
– Началось с того, – отвечал Мэррел, – что год назад умер Сивуд. Все перешло его наследнице, а она, как говорится, спятила. Она стала христианкой, и самой странной: отдала поместье другу моему аббату и его веселому воинству, а сама ушла работать в какой-то монастырский приют. Он в доках, на Лаймхаусском участке…
Библиотекарь побледнел и вскочил со всею силой странствующего рыцаря. Глядел он не на башни Сивуда.
– Я еще не совсем понял, – сказал он, – но это меняет все, хотя не очень облегчает. Нелегко пойти в доки и справиться…
– …о родовитой Розамунде Северн, – закончил его друг. – Нет, она зовется иначе. Вы найдете ее, если спросите мисс Смит.
При этих словах безумие, словно гром небесный, поразило библиотекаря. Он перепрыгнул через изгородь и побежал на восток, к лесу, отделявшему его от доков и мисс Смит.
Прошло месяца три прежде, чем кончилось его паломничество, а с ним – и наша повесть. Уже не бегом он преодолел лабиринт Лаймхауса и вечером, в зеленом тумане, подобном парам ведовского зелья, свернул в узкую улочку, где светился бумажный фонарь. Немного дальше горел еще один фонарь. Подойдя к нему, Херн увидел, что он – железный, с цветным стеклом, на котором довольно грубо изображен святой Франциск и алый ангел за его спиной. Эта прозрачная картинка показалась ему знаком всего, что сам он искал когда-то так яростно, Оливия Эшли – так тихо. Но была и разница: фонарь светился изнутри.
Он жадно пил цвет, осветивший его жизнь, из пламенной чаши символа, сияющего сквозь мрак улицы, и не удивился, что Розамунда стоит перед ним, словно в его снах или в трагической мелодраме былого. Рыжие волосы пылали огненной короной, а платье было длинное, темное, но вполне обычное.
Со свойственной лишь ему неловкой быстротой он сказал:
– Вы няня, а не монахиня.
Она улыбнулась и отвечала:
– Мало вы знаете о монахинях, если думаете, что наша… наша история могла бы кончиться так. В монастырь не уходят с горя.
– Вы хотите сказать… – начал он.
– Я хочу сказать, – продолжила она, – что не рассталась с надеждой на меньшую радость. Должно быть, это очень часто говорят, но это правда: я знала, что вы меня найдете.
Она помолчала и начала снова:
– Не будем вспоминать старых ссор. Отец гораздо меньше виноват, чем вы думали, и гораздо больше, чем думала я. Но не мне и не вам его судить. Не он породил то зло, от которого пошли все беды.
– Я знаю, – сказал он. – Меня это мучило, пока я не понял, какова мораль этой повести. Но во всей повести нет ничего лучше вас и вашего подвига. Быть может, ученые сочтут вас легендой.
– Первой поняла Оливия, – серьезно сказала Розамунда. – Она умнее меня и все увидела. А я ушла и долго думала, и вот – пришла сюда.
– Оливия тоже… пришла сюда? – медленно спросил Майкл.
– Да, – отвечала Розамунда. – И знаете, Брейнтри доволен. Они теперь женаты и согласны во всем. Я часто думаю, стоило ли так много спорить.
– Все женятся, – сказал он.



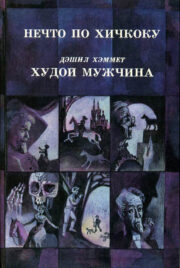
"Возвращение Дон Кихота" отзывы
Отзывы читателей о книге "Возвращение Дон Кихота", автор: Гилберт Кийт Честертон. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Возвращение Дон Кихота" друзьям в соцсетях.