– Вы социалист? – спросил Арчер, удивленно глядя на него.
– Я последний либерал, – ответил Мэррел.
Майкл Херн относился серьезно ко всем своим обязанностям, но вскоре все заметили, что к одной из них он относится со скорбью. Во всяком случае, это заметила Розамунда и угадала причину. В ней было много материнского – такие женщины часто привязываются к таким безумцам. Она знала, что он принимает всерьез, без капли юмора, внешние свои обязанности и может повести рыцарей в бой, а потом – вершить суд, ни разу не помыслив об опереточных королях. Она знала, что он может снять шлем и кирасу и надеть поверх зеленого камзола пурпурную мантию, не вспомнив о том, как любил менять форму германский император. Но сейчас он был не только серьезен. Во-первых, он очень много работал. День и ночь сидел он над книгами и бумагами, все больше бледнея от напряжения и усталости. Она понимала, что он должен приспособить феодальные законы, чтобы уладить нынешние беспорядки. Это ей нравилось; собственно, это ей и нравилось больше всего. Но она и не подозревала, что ему придется так много корпеть над старыми документами. Однако тут были и документы новые, самые удивительные, на каком-то из них она даже увидела подпись Дугласа Мэррела. Все это очень утомляло верховного судью; но Розамунда знала, что скорбь его вызвана другим.
– Я поняла, что с вами, Майкл, – сказала она. – Тяжело обижать тех, кого любишь. А вы любите Брейнтри.
Он обернулся через плечо, и ее поразило выражение его лица.
– Я не знала, что вы любите его так сильно, – сказала она.
Он отвернулся. Вообще он был резок на этот раз.
– Но я знаю о вас и другое, – продолжала она. – Вы будете справедливы.
– Да, – отвечал он. – Справедливым я буду. – И опустил голову на руки.
Из почтения к его разбитой дружбе она молча ушла.
Минуты через две он снова взял перо и принялся что-то выписывать. Но прежде он поглядел на высокий потолок зала, где он так долго работал, и взор его задержался на полке, куда он некогда вскарабкался.
Джон Брейнтри не питал почтения к романтическим карнавалам, даже тогда, когда их любила та, кого он любил; и уж никак не восхищался, когда к ним присоединились ужасы суда. Увидев символические топорики и пышные одежды, он преисполнился презрения, а презрение нельзя презирать, когда им защищается побежденный. Его спросили, не хочет ли он что-нибудь сказать суду, и он повел себя дерзко, как Карл I.
– Я не вижу никакого суда, – сказал он. – Я вижу людей, разрядившихся валетами и королями. Я не стану признавать разбойников за то, что они – ряженые. По-видимому, придется вытерпеть эту комедию, но сам я не скажу ничего, пока вы не притащите дыбу или испанский сапог, а там и разложите костер. Надеюсь, вы их воскресили. Человек вы ученый, и дадите нам подлинное средневековье.
– Вы правы, – серьезно сказал Херн. – Мы хотим восстановить средневековую систему, хотя и не во всех деталях, ибо никто не станет защищать во всех деталях какую бы то ни было систему. Однако вы не сделали ничего, что заслуживало бы сожжения. Такой вопрос даже и не вставал.
– Весьма обязан, – любезно сказал Брейнтри. – Нет ли тут лицеприятия?
– Где порядок? – гневно вскричал Джулиан Арчер. – Работать невозможно! Где уважение к суду?
– Но за поступки, которые могли повредить многим людям, – продолжал судья, – вы несете ответственность, и суд будет вас судить. Это не я говорю. Это говорит Закон.
И он взмахнул рукой, словно мечом, обрывая восторженные крики. Крики утихли, но молчание было таким же восторженным. А Херн продолжал ровным голосом:
– Мы пытаемся восстановить старый порядок. Конечно, приходится его в чем-то менять, и тем самым создавать новые законы. Великий век, источник нашей жизни, был разнороден и знал исключения; мы же должны вывести общее, оставляя в стороне противоречащие друг другу детали. В данном случае речь идет о неурядицах, возникших в так называемой угольной промышленности, особенно – в той, что занята превращением дегтя в красители и краски, и мы должны обратиться к общим положениям, которым подчинялся некогда человеческий труд. Положения эти отличны от тех, которые возникли позже, в менее спокойное, даже беззаконное время. Главное в них – порядок и повиновение.
Толпа одобрительно загудела, Брейнтри засмеялся.
– В цехах и гильдиях, – продолжал Херн, – подмастерья и поденщики безусловно подчинялись мастерам. Мастером считался тот, кто сделал образцовую работу, так называемый «шедевр». Другими словами, человек сдавал цеху нелегкий экзамен. Обычно он работал на свои деньги, со своим материалом, своими инструментами. Подмастерье – это ученик, поденщик – тот, кто, еще не выучившись, нанимается к разным мастерам и нередко странствует по разным местам. Каждый из них мог стать мастером, сработав свой шедевр. Такова в общих чертах старая организация труда. Применяя ее к данному случаю, мы видим следующее. Мастера здесь три, ибо лишь трое владеют сырьем, деньгами и орудиями труда. Я проверял все это и убедился, что владеют они ими сообща. Один из них – сэр Говард Прайс, прежде – мастер-мыловар, внезапно перешедший в цех красильщиков. Другой – Артур Северн, барон Сивуд. Третий – Джон Генри Имс, граф Иден. Но я не нашел ни слова об их образцовых работах, о личном участии в труде и обучении подмастерьев.
Мэррел весело улыбался, на других лицах проступило недоумение, а на тонком лице сэра Джулиана оно уже сменялось негодованием и достигло той степени, когда вот-вот выльется в слова: «Ну, знаете ли!»
– Здесь нужна особая осторожность, – говорил судья. – Мы не вправе искажать самый принцип мнениями и чувствами. Я не вспомню, как говорил здесь вождь рабочих, тем более – как говорил он со мной. Но если он считает, что ремеслом должны ведать те, кто им владеет, я скажу без колебаний, что он с большою точностью воспроизводит средневековый идеал.
Впервые за все это время Брейнтри удивился. Если это был комплимент, он не знал, как принять его с должной учтивостью. Толпа гудела все громче, а Джулиан Арчер, еще не дошедший до того, чтобы прервать оратора, возмущенно шептал что-то Мэррелу.
– Конечно, – продолжал Херн, – лорд Иден и лорд Сивуд вправе представить работу на суд цеха. Не знаю, выберут ли они ремесло, которым занимались в неведомые мне времена, или поступят подмастерьями к какому-нибудь рабочему.
– Простите, – медленно проговорил здравомыслящий Хэнбери, – шутка это или нет? Я просто спрашиваю, шутки я люблю.
Херн посмотрел на него, и он умолк. А судья неуклонно продолжал:
– Признаюсь, третий случай мне не так ясен. Я не совсем уразумел, как именно переменил свое ремесло сэр Говард. Это было очень трудно при том порядке, который мы пытаемся восстановить. Однако здесь мы касаемся иного вопроса, о котором я буду вынужден говорить и позже, и суровей. В первых же двух случаях решение неоспоримо. Суд признает: требование Джона Брейнтри, чтобы ремеслом всецело ведали и правили ремесленники-мастера, не противоречит нашим традициям и справедливо само по себе, а потому должно быть принято.
– Что за черт!.. – сказал Хэнбери, не утратив флегматичности.
– Да что же это такое! – вскричал Арчер вполне рассудительно, хотя и сбиваясь на визг.
– Решение принято, – промолвил судья.
– Нет, – начал Арчер, – нельзя же, честное слово…
– Где порядок? – спросил Мэррел. – Работать невозможно! Где уважение к суду?
Никто не заметил этих реплик, но все, кто глядел на судью, видели, что серьезность его переходит в суровость, ибо ему нелегко и сохранять напряжение, и оставаться бесстрастным.
Глава 17.
ОТРЕЧЕНИЕ ДОН КИХОТА
В этой суматохе два поименованных аристократа сидели неподвижно, как мумии, хотя причины их неподвижности, вероятно, были разными. Лорд Сивуд просто обомлел; такое выражение лица было бы у головы, если бы из-под нее выдернули тело. Конечно, судья вправе пошутить; но судьи шутят не так. А если это не шутка, что же это? Лорд Иден, как ни странно, улыбался, словно все это ему нравилось. Судья тем временем заговорил снова.
– Нужно правильно понимать такие вещи, – сказал он. – Если мы определяем или описываем цехи и гильдии, закон таков и другого мы не ищем. Но прежний порядок признавал и другие права, в том числе – право частной собственности. Ремесленник работал, торговец торговал, и собственность у них была. В случаях, подобных нынешнему, приходится признать, что абстрактная власть принадлежит рабочим, материалы же и доходы принадлежат тем, кого я назвал.
– Ну, это еще ничего!.. – хором выдохнули сторонники Арчера, а старый Сивуд закивал, как болванчик. Но Иден сидел неподвижно.
– Если говорить в общих чертах, – продолжал Херн, – средневековая нравственность и средневековое право вникали в принцип частной собственности глубже, чем более поздние системы. Скажем, тогда знали, что человек иногда владеет тем, чем владеть не вправе, ибо приобрел это способом, несовместимым с христианской нравственностью. Существовали законы против тех, кто отдавал деньги в рост или придерживал товары, чтобы повысить цену. Такие преступления карались позорным столбом и даже виселицей. В других же, честных случаях дозволялось владеть имуществом. Насколько мне известно, в красильную промышленность вложены деньги поименованных мною лиц. Деньги эти – основная часть их имущества, ибо земли, которыми владеют двое из них, частью заложены и приносят все меньше дохода. Богатством своим наши истцы обязаны успешной деятельности Красильной Компании, пайщиками которой состоят. Деятельность эта столь успешна, что во всем охваченном промышленностью мире продаются лишь те краски и красители, которые производят здесь. Остается узнать, какими способами достигла Компания такого успеха.
Со слушателями произошла странная перемена. Большинство, убаюканное знакомыми фразами реклам и отчетов, мерно кивало. Лорд Сивуд улыбался; лорд Иден хранил серьезность.



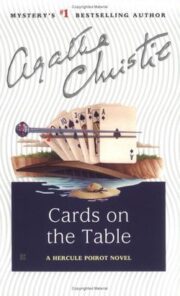

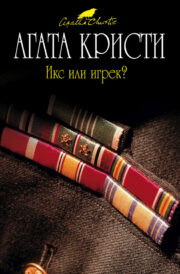
"Возвращение Дон Кихота" отзывы
Отзывы читателей о книге "Возвращение Дон Кихота", автор: Гилберт Кийт Честертон. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Возвращение Дон Кихота" друзьям в соцсетях.