Государственная религия действительно существовала, и она умерла не потому, что была государственной, ее убила истинная вера. Арианство в какой-то мере похоже на то, что проповедуют сейчас: Христу отводится в нем странное, промежуточное место. Многим казалось, что это и понятнее, и либеральней. Ариане были, так сказать, людьми умеренными, чувствующими дух времени. Многие радовались, что наконец из мешанины первых дрязг выкристаллизовалась приличная религия, на которой вполне может успокоиться цивилизованное общество. Ее принял и сделал государственной сам император; военачальники и воинская знать молодых, варварских, северных стран поддерживали ее. Поэтому особенно важно то, что случилось потом. Точно так же как наш современник-унитарий[296] может легко стать полным агностиком, величайший из императоров-ариан отбросил последние притязания на христианство и сменил Ария на Аполлона[297]. Он был кесарь из кесарей — воин, ученый, истинный философ на троне. Ему казалось, что по его знаку снова встало солнце. Заговорили оракулы, словно птицы запели на заре; вернулись языческие боги. Пришел конец странному, временному восточному суеверию. Так оно и было — временное суеверие кончилось. Пришел конец причуде императора и моде поклонения. То, что началось при Константине, кончилось при Юлиане.
Но кончилось не все. В тот час, бросив вызов народной суматохе Соборов, Афанасий[298] встал против мира. Мы остановимся на этом подробнее, это очень важно, а сейчас перестали понимать, в чем тут соль. Люди просвещенные любят приводить как пример догматического крохоборства и мелочных сектантских споров вопрос о предвечности Сына. Те же либералы вечно приводят как пример чистого, простого христианства, не испорченного догматическими спорами, слова: «Бог есть Любовь». Но ведь это одно и то же; во всяком случае, второе почти бессмысленно без первого. Сухая догма — логическое выражение прекраснейшего чувства. Если безначальный Бог существует прежде всех, кого же любил Он, когда некого было любить? Если в немыслимой вечности Он был один, что значат слова о том, что Он — Любовь? Эту тайну можно объяснить только мистически: по-видимому, в Его природе есть что-то, подобное самовыражению; Он что-то порождал и созерцал порожденное Им. Без этого поистине неразумно усложнять последнюю суть Божества такой идеей, как любовь. Если наши современники действительно ищут простую религию любви, пусть они обратятся к Никейскому Символу Веры. Трубный глас истинного христианства — весь мятеж, вся любовь, вся милость Вифлеема — звучал особенно громко и чисто, когда Афанасий бросил вызов холодному компромиссу ариан. Это он сражался за Бога Любви против бога бесцветного далекого надзора, бога стоиков и агностиков. Это он защищал Младенца Христа от серого божества фарисеев. Он бился за ту несравненно прекрасную связь, ту взаимную близость, благодаря которой Пресвятая Троица полна тепла и любви, как Святое Семейство.
Церкви снова, второй раз, пришлось встать против Империи, и это показывает, что в мире развивалось нечто очень весомое, личное и несовместимое с тем, что выбрала Империя. Сила эта разрушила без остатка официальную имперскую веру. Она пошла своим путем, идет им и теперь. Таких примеров много, и все было так же, как с манихеями и арианами. Через несколько веков, например, Церковь снова отстояла Троицу (то есть Любовь, если судить логично) против одинокого и упрощенного Бога мусульман. Многие никак не поймут теперь, почему и за что сражались крестоносцы; многие даже считают, что христианство — разновидность так называемого «иудаизма», вошедшего в силу с упадком эллинизма. Сторонников этого взгляда, конечно, озадачит война Креста и Полумесяца. Если в христианстве нет ничего, кроме простой морали и борьбы с многобожием, почему же оно не слилось с исламом? Потому что ислам был варварской реакцией на ту в высшей степени человечную сложность, которая свойственна христианству: на то равновесие в Самом Боге, подобное равновесию в семье, из-за которого наша вера исполнена здравого смысла, а здравый смысл стал душой нашей цивилизации. Церковь с самого начала проносит свои взгляды сквозь моды и вкусы века. Она беспристрастно наносит удары и в ту, и в другую сторону, бьет по пессимизму манихеев и по оптимизму пелагиан[299]. Она не была манихейским движением, потому что вообще не была движением; она не была придворной модой, потому что не была модой. Она совпадала во времени с движениями и модами, но всегда умела обуздать их и пережить.
Великие ересиархи могут встать из могил, чтобы опровергнуть нынешних своих коллег. Новые не сказали ничего, что бы не оспорили те, давние. Вот кто-то бросит, походя, что христианство — болезненная, чисто духовная, аскетическая реакция, пляска факиров, ненавидящих жизнь и любовь. Но Мани, великий мистик, возопит с тайного трона: «Не христианам говорить о духе! Они — не аскеты, они пошли на сделку с бедствием жизни, с мерзостью брака. По их вине плоды, злаки и дети оскверняют землю. Эти безумцы обновили мир, когда я едва не прикончил его». Другой напишет, что Церковь — лишь тень Империи, прихоть случайного тирана, висящий над современной Европой призрак Рима. Но Арий-пресвитер ответит из тьмы забвения: «Если бы это было так, мир принял бы мою, разумную веру. Ее сокрушили демагоги, не убоявшиеся кесаря. Мой защитник облачался в пурпур, и меня славили орлы. Что-что, а это у меня было; но я погиб». Третий скажет, что христианство — попросту панический страх перед вечными муками, бегство от мщения, агония самобичеваний; и это понравится тем, кому страшна наша вера. Но суровый голос Тертуллиана[300] ответит: «Почему же отвергли меня? Почему мягкосердечные глупые люди встали против меня, когда я провозгласил гибель всех грешников? Какая сила противилась мне, когда я грозил отступникам геенной? Но кто пошел по этому пути дальше меня и кто, как ни я, сказал: „Верю, ибо нелепо“? Четвертый предположит, что дух семитов-кочевников сокрушил удобное и уютное язычество, его города, его домашних богов, и ревнивое племя монотеистов навязало своего ревнивого Бога. Но Магомет ответит из красного вихря пустыни: «Кто служил единому Богу ревностней, чем я? Кто подарил Ему такое одиночество в небе? Кто воздал больше почестей Аврааму и Моисею, кто сокрушил больше идолов? Какая же сила отбросила меня, словно содрогнулось живое тело? Чей фанатизм смел меня с Сицилии и вырвал мои крепкие корни из скал Испании? Во что верили воины всех стран и сословий, когда кричали, что моей гибели хочет сам Господь? Какая праща метнула Готфрида на стену Иерусалима, что удержало Собесского[301] у ворот Вены? Не только единобожием была вера, которая так враждовала со мной».
Те, кто считают христианство узким и фанатичным, обречены на вечное удивление. Мы — аскеты и воюем с аскезой; мы — наследники Рима и воюем с Римом; мы монотеисты — и бьемся с монотеизмом. Загадку христианства не разрешишь, назвав его нелепостью. Если оно нелепо, почему же оно кажется разумным миллионам здравомыслящих людей, несмотря на все перемены без малого двух тысячелетий? Я нахожу одну разгадку: потому что оно не нелепо, а разумно. Если христиане — фанатики, они фанатично защищают разум, обличают глупость. Только этим я могу объяснить, почему наша вера так свободна и так тверда, почему она не желает принимать помощи от сил, которые на первый взгляд важны для ее существования; почему так строга к идеям, которые также на первый взгляд очень близки к ней; почему знает все чаяния века и всегда умеет встать над ними; почему никогда не говорит того, что от нее ждут, и никогда не отказывается от своих слов. Все это возможно только в одном случае: как Паллада из головы Зевса, она вышла из разума Господня целостной, зрелой, сильной, готовой к суду и битве.
Глава 5
СПАСЕНИЕ ОТ ЯЗЫЧЕСТВА
Современный миссионер с зонтиком и в шляпе из пальмовых листьев стал излюбленным предметом шуток. Мирские люди смеются и над тем, что его могут съесть дикари, и над тем, что он по своей узости считает дикарей ниже нас. Наверное, смешнее всего, что эти шутки оборачиваются против нас самих. Смешно спрашивать человека, готового к варке, почему он не верит в братство и равенство религий. Но миссионеру предъявляют и более тонкие обвинения. Его упрекают в том, что он говорит о язычниках вообще, не обращая внимания на тонкие различия между Магометом и Мумбо-Джумбо. Раньше действительно было так, но теперь ученые возводят в ранг теологии каждую мифологию. Интеллектуалы принимают всерьез все едва уловимые оттенки безответственной азиатской метафизики. И ни те, ни другие ни за что не хотят понять, что имел в виду Аквинат, проповедуя против языков[302], или Афанасий, проповедуя против мира.
Когда миссионер говорит, что христианин отличается от всех других людей, которых можно назвать общим именем «язычники», он совершенно прав. Он может, говоря это, испытывать совсем не христианские чувства, и тогда он будет духовно неправ. Но философски, исторически он прав. Он может чувствовать неверно, но будет прав. Иногда он даже не имеет права быть правым, но он прав. Все оттенки того внехристианского мира, в который он несет свою веру, можно обобщить. Вероятно, назвать его язычеством небезопасно, потому что при этом нелегко избежать лицемерия или гордыни. Лучше просто назвать его человечеством. У него есть свои свойства. Они совсем не обязательно плохие; многие из них заслуживают уважения христиан, многие из них восприняты и преображены христианством. Но они существовали и существуют до христианства, как море существует до и вокруг корабля. И запах у них такой же сильный, неповторимый, как у моря.
Например, серьезные ученые, занимающиеся Грецией и Римом, согласны в том, что религия и философия были там отделены друг от друга. Однако ни у той, ни у другой обычно не было желания, а может быть и сил, преследовать соперницу. Ни философ, ни жрец, по всей видимости, и не думали, что его воззрения объясняют весь мир. Жрец, принесший жертву Артемиде в Каледоне[303], не надеялся, по-видимому, что придет день, когда люди за морем будут поклоняться ей, а не Изиде; пифагореец не ждал, что его вегетарианство заменит повсеместно жизнь по Эпиктету или Эпикуру. Если вам захочется, зовите это либеральностью; сейчас я не веду спора, я пытаюсь воссоздать атмосферу. Ее признают ученые. Но ни ученые, ни невежды не заметили, что это полностью применимо и к современному нехристианскому миру, особенно к великим цивилизациям Востока. Восточное язычество, как и язычество античное, несравненно более однородно, чем кажется нынешним ученым. Оно подобно многоцветному персидскому ковру, как античность подобна римской мостовой; но мостовая эта треснула, когда земля сотряслась и камни рассеялись[304].

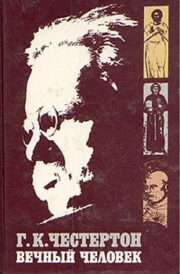
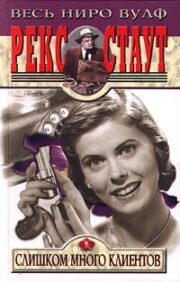



Великолепное произведение Честертона!
Захватывающая история о поисках вечности и преодолении страха!
Удивительное путешествие в поисках вечности!
Эта книга Гилберта Кийта Честертона «Вечный Человек» представляет собой великолепное произведение искусства. Оно поднимает важные вопросы о природе бессмертия и поиске бесконечной жизни. Книга предлагает интересные идеи и представляет их в доступной форме. Она привлекает внимание к важным проблемам и призывает к духовному развитию. Эта книга предоставляет возможность подумать о бессмертии и принять правильное решение в жизни.
Захватывающая история о поисках вечности!
Захватывающая история о преодолении страха и поисках вечности!
Великолепное произведение о поисках вечности!
Захватывающий путь по пространству и времени!