Глава 3
САМАЯ СТРАННАЯ ПОВЕСТЬ НА СВЕТЕ
В предыдущей главе я намеренно подчеркивал то, чего, по-видимому, не замечают теперь в Евангелии. Но, я надеюсь, никто не подумает, что я сам не заметил в нем ничего другого. Христос был и остается милостивейшим нашим Судией и лучшим нашим Другом, и это много важнее для нашей частной жизни, чем для исторических выкладок. Однако эти Его черты тонут в банальных обобщениях; и потому я так хочу показать, что рассказы о Нем никак нельзя обвинить в банальности. Чтобы это было яснее, я коснусь вопроса, намного более популярного в наше время, чем аскетизм или моногамия, — мы высоко ценим детство, которое тогда, в то время, не воспринимали так, как теперь. Если мы хотим показать, как своеобычно Евангелие, трудно найти лучший пример. Почти через две тысячи лет мы ощутили мистическое очарование ребенка. Мы воспеваем и оплакиваем первые годы жизни в «Питере Пэне»[248] и в сотнях детских стихов. Но языческий мир не понял бы нас, если бы мы сказали, что ребенок лучше и священнее взрослого. С логической точки зрения, это ничем не отличается от утверждения, что головастик лучше лягушки, бутон красивее цветка, зеленое яблоко вкуснее спелого. Другими словами, наше отношение к детству — мистическое, как культ девства; в сущности, это и есть культ девства. Античность больше почитала девственницу, чем дитя. Сейчас мы больше почитаем детей, может быть, потому, что они, нам на зависть, делают то, чего мы уже не делаем, — играют в простые игры, любят сказки. Как бы то ни было, наше отношение к детям — чувство сложное и тонкое. Но тот, кто считает его открытием последних десятилетий, должен узнать, что Иисус Назаретянин открыл его на две тысячи лет раньше. Ничто в его мире не могло Ему помочь; здесь Он — истинно-человечен, гораздо человечней людей своего времени. Питер Пэн родился не в мире Пана, а в мире Петра.
Даже с литературной, стилистической точки зрения (если, конечно, мы вправе смотреть на Писание со стороны) можно отыскать в Евангелии одну особенность, которую, кажется, еще не заметили. Наверное, во всей словесности нет ничего равного по совершенству притче о полевых лилиях. Вот Он берет маленький цветок и говорит, как он прост, даже бессилен; потом вдруг расцвечивает его пламенными красками, и цветок становится чертогом великого, славного царя; и тут же обращает в ничто, словно бросает на землю, — «…если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра пойдет в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры»[249]. Когда я читаю эту притчу, мне кажется, что по мановению руки, силою белой магии возникает Вавилонская башня, только добрая, не злая, а на ее далекой вершине стоит человек, вознесенный превыше небес по звездной лестнице легкой логики и вдохновенного воображения. С литературной точки зрения эта притча лучше всех наших книг, хотя привел Он ее вскользь, невзначай, словно сорвал цветок. Само ее построение показывает нам, насколько Он выше простых проповедников опрощения. Только очень тонкий и очень высокий ум (в самом лучшем смысле слова) способен сравнить низшее с высшим, а высшее — с высочайшим, мыслить на трех, а не на двух уровнях. Только очень мудрый человек поймет, например, что гражданская свобода выше рабства, но духовная свобода выше гражданской. Так не мыслят упростители Писания, призывающие к «евангельской морали», которую одни зовут простой, другие — сентиментальной. Так не мыслят те, кто довольствуется призывами к миру во что бы то ни стало. Кстати, поразительный пример такого хода мысли — слова о мире и мече. Человек, лишенный этой силы, не поймет, что, хотя добрый мир лучше доброй ссоры, добрая ссора лучше худого мира. Таких сравнений в Евангелии немало, и я не перестаю дивиться им. Так, объемное тело глубже и выше двухмерных существ, обитающих на плоскости.
Я говорю здесь о тонкости и высоте ума, способного к дальновидности и даже к двусмысленности, не только затем, чтобы противопоставить ее привычным толкам о безвредном, непрактичном евангельском идеализме. Сейчас я вспомнил о ней в связи с поразительной истиной, которой уже коснулся в конце прошлой главы. Человек, способный на такой ход мыслей, не впадает в манию величия, особенно в предельную, ведь дальше некуда. Конечно, если человек умен, это еще не значит, что он Бог; но это значит, что ему противно грубое хвастовство. Такой человек, если он только человек, меньше всех на свете склонен пьянеть от невесть откуда взявшейся идеи; это свойственно совсем иным людям, неуравновешенным, сверхчувствительным, обманывающим себя. Вопрос не будет яснее, если даже вам скажут, что Христос не называл Себя Богом. Ни одному пророку или философу, равному Ему по мудрости, не могли бы это приписать. Допустим, что Церковь ошиблась, неправильно поняла Его; но никто, кроме Церкви, так не ошибается. Магометане не приняли Магомета за Аллаха, евреи не приняли Моисея за Ягве. Даже если все христианство зиждется на ошибке, ошибка эта неповторима, как Воплощение.
Задача моей книги — показать, как неверны привычные, пошлые и смутные представления о христианской вере; сейчас я говорю о самом неверном. В наши дни принято считать, что все религии равны, а все основатели религий — соперники, оспаривающие друг у друга звездный венец. Это не так. Только Один из них оспаривал венец. Магомет думал об этом не больше, чем Михей[250] или Моисей; Конфуций — не больше, чем Платон или Марк Аврелий. Будда не считал себя Брамой, Зороастр называл себя Ормуздом не чаще, чем Ариманом[251]. Собственно, все обстоит именно так, как мы ожидаем согласно здравому смыслу и, уж точно, по христианскому учению. Чем выше человек, тем меньше у него оснований себя возвысить. Кроме единственного раза, о котором я говорю, такие претензии свойственны только очень мелким людям, помешанным на любви к себе. Нельзя и представить, что Аристотель назовет себя отцом богов и людей, хотя очень легко представить, что это припишет ему, а скорее себе умалишенный император вроде Калигулы[252]. Трудно поверить и в то, что Шекспир назовет себя великим, хотя американский филолог вполне может вычитать это в его, а скорее в собственных трудах. Да, такие люди бывают. Их нетрудно найти в сумасшедших домах, часто — в смирительных рубахах. Сейчас нам важна не их несчастная, чисто материальная судьба в нашем несчастном, материалистическом обществе с его жестокими, неуклонными законами, нам важно иное: такой человек очень узок и напыщен до безобразия. Мы говорим о сумасшедшем «тронутый», говорим «он свихнулся», но все это — плохие метафоры; его нельзя поколебать, он совершенно замкнут, во всем уверен. Искать подобных людей надо не среди мудрецов, святых и пророков, а среди несчастных маньяков. Но никто не скажет, что человек Иисус из Назарета был таким. Ни один атеист и богохульник не думает, что автор притчи о блудном сыне был одноглазым чудовищем. С любой точки зрения он (или Он) выше этого.
Перед всяким, кто впрямь посмотрит на Христа-человека со стороны, непредвзято, встанет трудная проблема. Она столь важна, что я посоветую нарисовать что-то вроде портрета. Если Христос был только человеком, он был человеком сложным, даже противоречивым. В нем соединялись именно те черты, которые считают несовместимыми. В нем было именно то, чего нет у безумцев. Он был мудр и справедлив — такими не бывают маньяки. Он говорил неожиданные, нередко поразительные вещи, но поражал он милосердием, а часто — умеренностью. Вспомним притчу о плевелах[253]. В ней есть тонкость и здравый смысл, в ней нет простоты безумия, нет даже простоты фанатизма. Легко вложить ее в уста столетнего философа, живущего в самом конце века утопий. Я просто не могу себе представить, как согласовать все это с притязаниями на Божий сан, если не принять того объяснения, которое дает нам Церковь. Если мы не примем на веру, что Христос был Богом, любые рассуждения совсем запутают нас. Только Бог достаточно велик для того, чтоб называть себя Богом. Великий мудрец знает, что он — не Бог, и, чем он мудрее, тем лучше он это знает. В том-то и странность: чем ближе ты к Богу, тем от Него дальше. Сократ, мудрейший из людей, знал, что не знает ничего. Сумасшедший может считать себя Всевышним, дурак — всеведущим. Христос всеведущ иначе: Он знал, что знает.
Словом, даже в чисто человеческом смысле Христос Нового завета — больше чем просто человек; Он — и человек, и нечто большее. Однако еще одну черту нелегко уместить в чисто человеческие рамки. Сквозь все поучения Христа проходит нить, почти незаметная для тех, кто говорит теперь, что это именно поучение. Когда читаешь Евангелие, так и кажется, что на самом деле Он пришел не для того, чтобы учить. Ничто на свете не трогает меня больше, чем претворение воды в вино на свадебном пиру[254]. Рассказ о Кане Галилейской демократичен, как книги Диккенса. Он человечен в том смысле, в каком не применишь это слово к целой толпе человекообразных умников. Он выше высокомерия избранных. Но даже в нем есть что-то еще, есть отзвук тайны. Я говорю сейчас о первом колебании. Христос усомнился не в чудесах, Он усомнился в том, нужно ли творить их сейчас. «Еще не пришел час Мой»[255]. Что это значит? Мы не знаем; но что бы это ни значило, эти слова говорят нам, что у Него был план, была цель и все возможные действия или служили ей, или не служили. Если мы не заметим этого плана, мы упустим самую суть истории Христа, нет, мы просто ничего не поймем в Евангелии.
Нередко говорят, что Иисус был бродячим учителем, и это очень важно — мы не должны забывать, как относился Он к роскоши и условностям. Вероятно, респектабельные люди и сейчас сочли бы Его бродягой. Он Сам говорил, что лисы имеют норы, а птицы гнезда[256], и, как бывает часто, мы ощущаем не всю силу этих слов. Мы не всегда замечаем, что, сравнивая Себя с лисами и птицами, Он называет Себя Сыном Человеческим, то есть Человеком. Новый Человек, Второй Адам, признал во всеуслышание великую истину, с которой мы начали эту книгу: человек отличается от животных всем, даже беззащитностью, даже недостатками; он менее нормален, чем они, он странник, чужой, пришелец на земле. Хорошо напоминать нам о странствиях Иисуса, чтобы мы не забыли, что Он разделял бродячую жизнь бездомных. Очень полезно думать о том, что Его прогоняла бы, а может, и арестовывала бы полиция, потому что не могла бы определить, на что Он живет. Ведь наш закон дошел до таких смешных вещей, до каких не додумались ни Нерон, ни Ирод, — мы наказываем бездомных за то, что им негде жить.

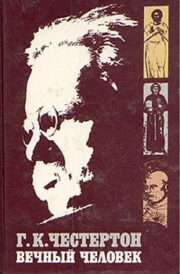


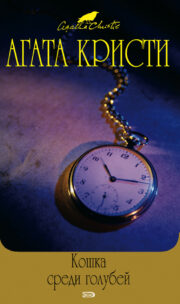

Великолепное произведение Честертона!
Захватывающая история о поисках вечности и преодолении страха!
Удивительное путешествие в поисках вечности!
Эта книга Гилберта Кийта Честертона «Вечный Человек» представляет собой великолепное произведение искусства. Оно поднимает важные вопросы о природе бессмертия и поиске бесконечной жизни. Книга предлагает интересные идеи и представляет их в доступной форме. Она привлекает внимание к важным проблемам и призывает к духовному развитию. Эта книга предоставляет возможность подумать о бессмертии и принять правильное решение в жизни.
Захватывающая история о поисках вечности!
Захватывающая история о преодолении страха и поисках вечности!
Великолепное произведение о поисках вечности!
Захватывающий путь по пространству и времени!