Вавилон и Египет можно назвать первозванными уже потому, что они знакомы, привычны и завлекательно таинственны для нас и для наших предков. Не надо думать, что только они лежали в глубокой древности вокруг моря и что цивилизация была лишь у шумеров[72], или у семитов[73], или у коптов[74]; и уж никак нельзя думать, что она ограничена Азией и Африкой. Серьезные исследователи все выше и выше поднимают древнюю цивилизацию Европы, особенно тех мест, которые мы не слишком определенно называем Грецией. Очень может быть, что существовали греки до греков, как, по их собственной мифологии, были боги до богов. Остров Крит был центром цивилизации, которую сейчас зовут минойской, в честь Миноса, чей лабиринт действительно нашли современные археологи[75]. Может быть, эта высокая культура, знавшая гавань и канализацию и многие бытовые удобства, исчезла под нашествием с севера тех, кто создал или унаследовал Элладу, известную нам из истории. Как бы то ни было, период этот оставил миру такие дары, что мир до сих пор не может расплатиться с ним, сколько ни тешит себя плагиатом.
Неподалеку от Ионийского берега[76], напротив Крита и малых островов, был городок, который в наши дни сочли бы, вероятно, огороженной деревней. Он назывался Илион, называли его и Троей, и это имя никогда не исчезнет с Земли. Поэт, возможно, нищий, неграмотный певец, которого предание считает слепым, сложил поэму о греках, напавших на этот город, чтобы отвоевать прекраснейшую в мире женщину[77]. Нам кажется выдумкой, что прекраснейшая в мире женщина оказалась именно в этом городке, но лучшую в мире поэму сложил человек, который не знал ничего, кроме таких городков. Говорят, поэма эта появилась в конце древнейшей культуры; если это верно, я очень хотел бы видеть эту культуру в расцвете. Наша первая поэма могла бы остаться единственной. Первое слово человека о его земной доле, увиденной по-земному, могло бы стать последним. Если мир сползет в язычество и погибнет, последний из живых может перед смертью прочитать «Илиаду».
Однако в великом откровении античного человека есть черта, которой еще не отвели достойного места в истории. По-видимому, поэт (и, несомненно, читатель) сочувствуют скорее побежденным, нежели победителям. Именно это подхватила традиция, когда иссяк поэтический источник. В языческие времена Ахилл[78] был почти полубогом, потом его почти забыли. Но слава Гектора крепла с течением веков, имя его носил рыцарь Круглого стола[79], меч его легенда вложила в руки Роланда, одарив оружием побежденного беду и славу поражения. В герое Илиона заложены все поражения, через которые прошли потом наши народы и наша вера, — те сотни и тысячи бед, в которых наша слава.
Рассказ о гибели Трои не погибнет, ибо мир огласился его эхом, бессмертным, как наше отчаяние и наша надежда. Маленькая мирная Троя могла веками стоять безымянной. Сломленная Троя погибла, и миг ее гибели остался жить навеки; пламя разрушило ее, а пламя не сожжешь. Так было с городом, так было и с героем — из древнего сумрака проступают очертания первого рыцаря[80]. В самом его прозвище — пророчество. Мы говорили о рыцарстве, о славном союзе коня и человека. За много веков его предвосхитил грохот Гомерова гекзаметра и длинное, словно бы скачущее слово, которым завершается «Илиада»[81]. Единение это сравнимо только со священным кентавром рыцарства. Но не только потому отвожу я в нашем кратком рассказе так много места объятому пламенем городу. Такие города стали священными, и пламя их побежало по берегам и островам Северного Средиземноморья, по высокой ограде маленького мира, за который умирали герои. Город мал, потому гражданин — велик. Среди бесчисленных изваяний Эллады нет ничего прекрасней свободного человека. Лабиринт огороженных деревень зазвенел плачем Трои.
Легенда, придуманная позже, но никак не случайная, говорит, что троянские беженцы основали республику на италийском берегу[82]. В духовном смысле это правда; именно таковы корни республиканской добродетели. Тайна чести, родившаяся не из гордыни Вавилона или Египта, засверкала, как щит Гектора, вызывая на бой Азию и Африку. Занялся новый день, шумно взлетели орлы и прогремело имя. Мир проснулся, чтобы обрести Рим.
Глава 4
БОГ И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИЙ
Однажды известный ученый показывал мне римские постройки древнего британского города и произнес при этом фразу, которая кажется мне сатирой на многие ученые высказывания. Может быть, он и сам понял шутку, хотя сохранял серьезность, но я не знаю, понял ли он, что шутка эта бьет прежде всего по «сравнительному изучению религий». Я удивился, что из солнечного диска, окруженного лучами, смотрел, против обыкновения, не молодой Аполлон, а бородатый Нептун[83] или Юпитер[84]. «Предполагают, — сказал мой спутник с осторожностью, — что это Сул, местное божество. Лучшие авторитеты приравнивают его к Минерве; но борода говорит о том, что тождество нельзя считать полным»[85].
Вот уж поистине мягко сказано. Нынешний мир безумней всякой сатиры. Когда-то у Беллока смешной профессор говорил, что бюст Ариадны по исследовании оказался бюстом Силена[86]. Но куда ему до Минервы в роли бородатой женщины! Правда, и то, и это очень похоже на уподобления, которыми мы обязаны «лучшим авторитетам». Когда христианство приравнивают к самым диким мифам, я не смеюсь, и не ругаюсь, и не выхожу из себя, я вежливо замечаю, что тождество нельзя считать полным.
Во времена моей молодости Религией Человечества обычно называли философию Конта[87] — учение нескольких позитивистов, поклонявшихся Человечеству. И в молодости я догадывался, что не совсем последовательно отмахиваться от учения о Троице, презрительно считая его мистическим и даже безумным, и поклоняться Богу в ста миллионах лиц неслиянно и нераздельно[88].
Однако на свете существует то, что можно с гораздо большим правом назвать религией человечества. Человек — не кумир, но он почти всегда и везде творит себе кумира, и кумиры его во многом человечней и лучше современных надуманных абстракций. Если у восточного бога три головы и семь рук, это хотя бы говорит о материальном воплощении неведомой силы и приближает его к нам. Но если друзья наши, обычные люди, выйдя на прогулку, сольются в азиатского идола, они станут от нас дальше. Многоликий, многорукий идол порождает ощущение приоткрывающейся тайны; смутные силы природы принимают в нем не слишком гармоничную, но вполне наглядную форму. Люди теряют человеческий облик, если они недостаточно отделены друг от друга, можно даже сказать, если они недостаточно одиноки. Их труднее, а не легче понять. Чем ближе они друг к другу, тем дальше от нас. Поклонники человечества тщательно изгоняли из своей религии Бога, чтобы сохранить человека. Это не получилось. Когда говорят о человечестве, мне представляются пассажиры в переполненной подземке. Удивительно, как далеки души, когда тела так близко.
Братство людей, о котором я говорю, не имеет ничего общего с однообразной, стадной жизнью современного города. Под братством я понимаю то, к чему стремятся предоставленные самим себе общества и даже люди, влекомые здоровым человеческим инстинктом. Как все здоровое и человеческое, он проявился в самых разных формах, но суть остается одна. Прежде всего мы увидим ее в той древней стране свободы, которая лежит за пределами рабовладельческих промышленных городов. Наша индустриальная цивилизация гордится, что все ее изделия похожи, что на Ямайке и в Японии можно пить одно и то же плохое виски, а на обоих полюсах — увидеть один и тот же веселенький ярлычок сомнительных рыбных консервов. А вино, дар богов, — разное в каждой долине, и каждый виноградник может породить сотню вин, ничуть не похожих на виски. Сыры меняются от округи к округе, и ни один из них не похож на мыло или на мел. Говоря о братстве, я имею в виду бесконечное разнообразие; тем не менее я буду рассматривать здесь людей как единство. Я настаиваю: мы так запутались именно потому, что этого не понимаем. Прежде чем сопоставлять религии и их основателей, надо бы понять очень естественное явление, охватывающее огромное братство людей. Явление это — язычество; и на этих страницах я попытаюсь показать, что только оно соперничает с Церковью Христовой.
Сравнительное изучение религий лучше бы назвать сомнительным. Когда мы присмотримся к нему, мы видим, что оно сравнивает несравнимое. Мы привыкли к единому списку великих религий и тех, кто их основал: Христос, Магомет, Будда, Конфуций. Но это ловкость рук, обман зрения, одна из тех оптических иллюзий, которые возникают, если смотришь из определенной точки. Религии и основатели религий — или то, что так называют, — совсем не одинаковы. Иллюзия отчасти вызвана тем, что ислам в этом перечне идет за христианством, как и было в истории. Остальные же религии ничуть не схожи ни с Церковью, ни друг с другом. Когда мы доходим до Конфуция, обрывается последняя связь. Сравнивать христианина с последователем Конфуция — то же самое, что сравнивать теиста[89] с английским сквайром или веру в бессмертие души с американским образом жизни. Конфуций, быть может, создал цивилизацию, но никак не религию.
Церковь неповторима, и потому так трудно доказать ее неповторимость. Ведь легче и нагляднее всего доказательство по сходству, а в мире нет ничего подобного Церкви. Нет подобия — нет и искажения. Все же я, кажется, нашел довольно близкую параллель. Наверное, многие согласятся, что евреи занимают в мире особенное, единственное место. Только их мы вправе назвать международным народом; только эта древняя культура рассеяна по всему миру, и ее еще можно отличить, но невозможно уничтожить. И вот представьте себе, что кто-нибудь решил смягчить загадочную неповторимость евреев, составив список рассеянных по свету народов. Начать нетрудно — есть цыгане; быть может, они не совсем народ, но, без сомнения, рассеяны по свету. После этого профессору новой науки нетрудно перейти к кому угодно. Он может отметить непоседливость англичан, разбросавших колонии по всему миру, — и правда, многим англичанам не сидится в Англии, хотя их уход не всегда ей на пользу. Как только мы упомянем бродячую империю англичан, мы вспомним империю ссыльных — ирландцев. Странно, что непоседливость в первом случае говорит о предприимчивости и силе, во втором — о никчемности и слабости. Затем наш ученый глубокомысленно оглядится и вспомнит, что последнее время поговаривают о немцах-лакеях, немцах-парикмахерах и прочих немцах, натурализовавшихся в Англии; Соединенных Штатах и Южной Америке, и внесет в список пятую нацию бродяг, припомнив кстати слово «Wanderlust»[90]. Наконец, почувствовав, что конец близок, он сделает последний отчаянный прыжок. Он обратит внимание на то, что французы взяли почти все европейские столицы и прошли бесчисленные страны под началом Бонапарта или Карла Великого. Вот и готов список бродячих, бездомных народов, а в евреях нет ничего особенного, тем более мистического. Но люди здравомыслящие могут заподозрить, что ученый просто расширил понятие бродячего народа до того, что оно потеряло всякий смысл. Конечно, французские солдаты проделали славнейшие в истории походы, но если французский крестьянин не врос корнями в землю, то на свете оседлости нет.

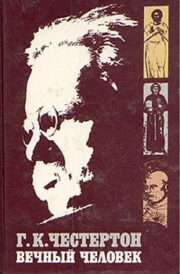
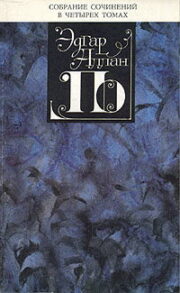

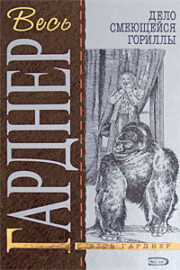
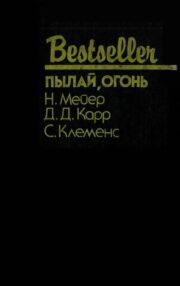
Великолепное произведение Честертона!
Захватывающая история о поисках вечности и преодолении страха!
Удивительное путешествие в поисках вечности!
Эта книга Гилберта Кийта Честертона «Вечный Человек» представляет собой великолепное произведение искусства. Оно поднимает важные вопросы о природе бессмертия и поиске бесконечной жизни. Книга предлагает интересные идеи и представляет их в доступной форме. Она привлекает внимание к важным проблемам и призывает к духовному развитию. Эта книга предоставляет возможность подумать о бессмертии и принять правильное решение в жизни.
Захватывающая история о поисках вечности!
Захватывающая история о преодолении страха и поисках вечности!
Великолепное произведение о поисках вечности!
Захватывающий путь по пространству и времени!