Именно этот фокус проделали ученые, расставившие в ряд великие религии. Я не хочу сказать, что члены этого ряда лишены величия или своеобразия. И конфуцианство, и буддизм велики, но они — не Церковь; так англичане и французы — великие народы, но они — не бродячие. В некоторых отношениях христианство похоже на свою имитацию, ислам; и цыгане кое в чем похожи на евреев. Дальше список включает почти все, что попадется под руку.
Со всем почтением к тем, кто много ученей меня, я посмею отказаться от нынешнего метода, который, на мой взгляд, исказил исторические факты, и предложу свою классификацию, которая, надеюсь, охватит все факты, а также, что здесь важнее, — все вымыслы. Я разделю религии не географически, не вертикально (христианство, ислам, индуизм, буддизм), а психологически, горизонтально. Я разделю их по слоям, которые могут существовать в одной стране и даже в одной душе. На время я вынесу христианство за скобки и расскажу о вере в Бога, в богов, в бесов, в мудрость. Мне кажется, что такая классификация поможет рассортировать духовный опыт человечества гораздо успешнее, чем обычное сопоставление религий, и многие великие личности встанут на свои места. Поскольку я буду не раз пользоваться этими терминами, я хотел бы сейчас определить, что понимаю под каждым из них. Начну с самого простого и с самого высокого в этой главе.
Говоря о языческом человечестве, нам приходится начинать с описания неописуемого. Многие преодолевают трудность тем, что просто отрицают ее или хотя бы не замечают; но в том-то и суть, что это оставалось и тогда, когда этого не замечали. Теперь все помешались на эволюции и полагают, что большое всегда развивается из маленького, как плод — из семени. Но они забывают, что семя падает с дерева. И впрямь, у нас нет доказательств, что религия развилась из ничтожной забытой мелочи; гораздо вероятнее, что ее начало было слишком огромно и потому — несподручно. Очень может быть, что многие люди начали с простой и поразительной идеи Вседержителя и только потом, как бы от усталости, соскользнули к богам или бесам. Даже современные дикари, столь любезные фольклористу, подтверждают эту мысль. У дикарей примитивных во всех смыслах, какие только вкладывают в это слово, — скажем, у аборигенов Австралии — обнаружили монотеизм с явной нравственной окраской. Какие-то дикие политеисты рассказывали миссионеру свои запутанные мифы, а он в ответ рассказал им о благом Боге, Который чисто духовен и судит людей по истине. Туземцы переполошились, словно кто-то выдал тайну, и закричали: «Атахокан! Он говорит про Атахокана!»[91]
Может быть, вежливость и даже скромность не разрешали им упоминать Атахокана. Может быть, у них, в отличие от нас, это имя не упоминают всуе. Возможно, старый Бог был связан со старой нравственностью, которая показалась обременительной в трудную минуту. Наконец, общение с бесами бывает более модным, более утонченным, как и в наши дни. Какова бы ни была причина, это встречается нередко: люди говорят о богах, принимая без разговоров Бога. Индеец Калифорнии рассказывает: «Солнце — отец и правитель неба. Оно — большой вождь. Луна — его жена, а звезды — дети», и так далее, и вдруг посредине этой сложной и наивной повести поясняет как бы в скобках, что солнце и луна должны делать то-то и то-то, «ибо так приказал Великий Дух, Который выше всего». Вот как относятся многие язычники к Богу. Его принимают как должное, забывают и вспоминают к случаю; кажется, это свойственно не одним язычникам. Иногда Высшее Существо хранят в тайне и упоминают лишь на высших ступенях посвящения. Но поистине всегда дикарь легко говорит о мифологии, молчит — о религии. Австралиец, например, создал царство нелепицы, которое наши предки сочли бы достойным антиподов. Ему ничего не стоит поболтать общения ради о том, что солнце и луна — половинки разрубленного младенца, а дождь — молоко исполинской коровы, но он удаляется в тайные пещеры, скрытые от женщин и белых, в храмы страшной инициации и там, под ритуальный грохот, обливаясь жертвенной кровью, узнает от жреца последние, чудовищные тайны, доступные только посвященным: что честность лучше хитрости, что добротой дела не испортишь, что люди — братья, а Отец их — Бог, Вседержитель, Творец неба и земли, видимого и невидимого[92].
Может показаться странным, что дикарь выбалтывает самые уродливые и нелепые свои верования и скрывает то, что величественно и разумно. Но в том-то и дело, что это совсем разные вещи. Мифы — это сказки, вымыслы, даже если они вездесущи, словно тропический ливень. Тайна — это правда, и скрывают ее потому, что принимают всерьез. Слишком легко забыть, как страшно единобожие. Роман, где все действующие лица окажутся одним и тем же героем, произведет немалое впечатление. Как же потрясает мысль, что и солнце, и река, и дерево — обличья одного Бога! К несчастью, и мы слишком часто принимаем Атахокана как должное. Но и для тех, кто допустил, чтобы мысль о Нем стала общим местом, и для тех, кто хранит ее в тайне, это старый трюизм и старая тайна. Нет доказательств, что она развилась из мифов, зато много оснований считать, что она мифам предшествовала. Мы не знаем, что творилось в мире, но «эволюция идеи Бога» — чистейшая выдумка. Идею эту прятали, от нее прятались, о ней почти забывали, ее отвергали — но она не развивалась. Многобожие нередко кажется ворохом единобожий. Тот или иной бог, занимающий невысокое место на Олимпе, владел и небом и землей в собственной долине. Как маленький народ, поглощаемый империей, он отдал местное всесилие за повсеместную известность. Самое имя Пана наводит на мысль о том, что он был богом всего, прежде чем стал богом леса. Само имя Юпитера звучит языческой версией слов «Отче наш»[93]. Порою кажется, что не только Великий Отец, но и Великая Мать, Деметра[94] или Кибела[95], просто не вынесла бремени единовластия. Вполне возможно, что у многих и не было других богов — они поклонялись какому-то одному, считая его Вседержителем.
В некоторых огромных, многолюдных краях — скажем, в Китае — простая мысль о Великом Отце не была, по-видимому, осложнена культами, хотя и сама в каком-то смысле не перестала быть культом. Лучшие авторитеты признают, что учение Конфуция — в сущности, агностическое — уживалось со старым теизмом именно потому, что он был в высшей степени расплывчатым. Китайцы говорили не о Боге, а о Небе, словно вежливый человек в гостиной, а небо всегда над нами, даже если мы очень далеки от него. Так и кажется, что простая истина уходила все дальше, пока не стала совсем далекой, по-прежнему оставаясь истиной. Именно это мы ощущаем в загадочных и прекрасных мифах о разлучении земли и неба — какая-то высшая сила куда-то уходит. Нам рассказывают на тысячи ладов, что небо и земля были некогда вместе, любили друг друга, а потом что-то, например непослушный ребенок, разлучило их, и мир был построен в этой пропасти, на расставании и разрыве. Одну из самых грубых версий мы находим в Греции в мифе об Уране и Сатурне[96]; одну из самых поэтичных — у дикого племени, рассказывающего о перце, который рос и рос, поднимая небо, как крышку. О мифах и мифических толкованиях, которые теперь предлагают, я буду говорить позднее. Но в этом образе, образе делящегося мира, есть отзвук очень важных идей. Чтобы их понять, лучше лечь на спину в поле и глядеть в небо, чем читать самые ученые и лучшие книги о фольклоре. Тогда мы узнаем, почему говорят, что небо должно быть ближе и когда-то было совсем близко, что оно не чуждо нам, а от нас оторвано и теперь прощается с нами. И странная догадка забрезжит в нашем сознании: а может быть, мифотворец — не просто деревенский дурак, вздумавший резать ножом облака? Может быть, в Томасе Гуде[97] говорил не грубый дикарь, когда он писал, что, судя по верхушкам деревьев, он дальше от неба, чем в детстве? Мне кажется, он бы понял миф об Уране и Сатурне — о том, что царя небес изгнал Дух Времени. Мысль о Боге светится даже в мысли, что были боги до богов. Во всех запутанных намеках — отблеск какой-то прежней простоты. Боги и полубоги плодятся на наших глазах, как сельди, а мы чувствуем, что у них есть родоначальник. Мифология становится все сложнее, и это наводит на мысль, что она когда-то была простой. Даже с внешней, с научной точки зрения можно предположить, что люди начали с единобожия, а позже оно развилось или выродилось в многобожие. Но меня интересует не столько внешняя, сколько внутренняя сторона дела, а, как я уже сказал, эту сторону почти невозможно описать. Ведь нужно говорить именно о том, о чем не говорят люди, переводить не с чужого языка, а с чужого молчания.
Мне кажется, что за всем многобожием и язычеством стоит что-то непомерно огромное, а мы видим лишь его отблеск в дикарских или греческих мифах. Я не сказал бы, что там есть Бог, Его там нет, но отсутствие — не отрицание. Когда мы пьем за отсутствующих друзей, мы не хотим сказать, что ни с кем не дружим. Такая пустота конкретна и положительна, как пустой стул. Я преувеличил бы, если бы сказал, что греки видели над Олимпом пустой престол. Ближе к истине великий образ Ветхого завета — помните, как пророк видел Господа сзади?[98] Вот и к древним словно кто-то великий повернулся спиной. Не надо думать, что они видели Его так же ясно и сознательно, как Моисей и его народ. Я совсем не думаю, что язычники были подавлены мыслью о Нем, ибо она и впрямь подавляет. Нет, она так огромна, что они несли ее легко, как все мы несем груз неба. Глядя на облако или птицу, мы можем и не заметить их грозного синего фона. Небо давит на нас, почти нас уничтожает, и мы ощущаем его как ничто, как пустоту. Может быть, все это и впрямь ничтожные или пустые ощущения, но у меня они очень сильны, когда я читаю о языческих мифах и верованиях. Я ощущаю это в несказанной печали стихов и далеко не уверен, что хоть один из славных мужей древности ведал радость святого Франциска. Я ощущаю это в легенде о золотом веке и в намеках на то, что сами боги — подвластны, даже если Неведомый выцвел и стал Судьбой. А сильнее всего этот дух в те бессмертные минуты, когда древние, словно стряхнув накопившуюся сложность, говорят просто, почти прямо и только наше односложное слово может выразить их мысль. Чем заменишь его в Сократовом прощании с судьями: «Я иду умирать, вы остаетесь жить, и только Богу ведомо, что лучше»[99]? Ничем не заменишь его у Марка Аврелия[100]: «Он говорит: „Возлюбленный град Кекропа“[101], почему же ты не скажешь: «Возлюбленный град Божий»? И нет другого слова у Вергилия, возопившего ко всем страждущим как истый христианин до Христа: «О passi graviora dabit deus his quoque finem»[102].

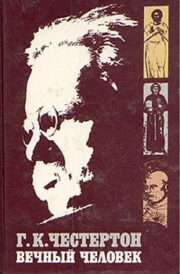


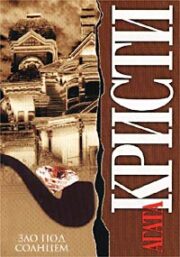

Великолепное произведение Честертона!
Захватывающая история о поисках вечности и преодолении страха!
Удивительное путешествие в поисках вечности!
Эта книга Гилберта Кийта Честертона «Вечный Человек» представляет собой великолепное произведение искусства. Оно поднимает важные вопросы о природе бессмертия и поиске бесконечной жизни. Книга предлагает интересные идеи и представляет их в доступной форме. Она привлекает внимание к важным проблемам и призывает к духовному развитию. Эта книга предоставляет возможность подумать о бессмертии и принять правильное решение в жизни.
Захватывающая история о поисках вечности!
Захватывающая история о преодолении страха и поисках вечности!
Великолепное произведение о поисках вечности!
Захватывающий путь по пространству и времени!