Остается еще поведение Кэролайн во время процесса. Но мне думается, я вижу и этому объяснение. Она взяла яд из лаборатории, решив покончить с собой, и тем самым навела мужа на мысль о самоубийстве. Можно предположить, что при свойственной ей щепетильности она чувствовала себя виновной в его смерти. И хотя в какой-то мере она была виновата, но только не в том, за что ее осудили…
Все это кажется мне вполне логичным. В таком случае вам, наверное, будет нетрудно убедить в этом маленькую Карлу? И она сможет выйти замуж за своего молодого человека, удостоверившись, что единственное, в чем была виновата ее мать, так это исключительно в намерении покончить с собой.
Я понимаю, что это вовсе не то, о чем вы просили меня написать. Вас интересуют события в том виде, как я их помню. Позвольте мне наконец исправить свою ошибку. Я уже полностью поведал вам о том, что происходило накануне смерти Эмиаса. Теперь перейдем к дню его гибели.
Спал я очень плохо, поскольку был выбит из колеи грядущими печальными переменами в судьбе моих друзей. Я долго не мог заснуть, все пытался найти решение, которое помогло бы предотвратить катастрофу, и уже под утро — около шести — я заснул глубоким сном. Я даже не слышал, как мне принесли утренний чай, и проснулся примерно в половине десятого с тяжелой головой и совершений разбитый. Вскоре после этого мне показалось, что я слышал какой-то шорох в комнате под моей спальней — там была лаборатория.
Здесь мне, пожалуй, следует упомянуть, что, по-видимому, в лаборатории побывала кошка. Я обнаружил, что оконная рама была чуть приподнята. Я по легкомыслию оставил окно приоткрытым, и кошка вполне могла в него пролезть. Я упоминаю об этом, чтобы объяснить, почему я очутился в лаборатории.
Я оделся и сразу пошел туда. Осмотрел полки — мне бросилось в глаза, что флакон с кониумом стоит не в ряд с другими. А приглядевшись, с ужасом заметил, что он почти пуст, хотя накануне был полным.
Я закрыл окно и вышел, заперев за собой дверь. Я был крайне расстроен и, признаться, сбит с толку. Когда меня что-либо выводит из себя, я плохо соображаю.
Сначала я был просто огорчен, потом почувствовал нечто недоброе и наконец начал испытывать настоящую тревогу. Я опросил всех слуг, они сказали, что никто из них не был в лаборатории. Поразмыслив над случившимся, я решил позвонить брату, чтобы спросить у него совета.
Филип соображал лучше меня. Он сразу оценил серьезность ситуации и велел мне тотчас прийти.
Я вышел, встретив по дороге мисс Уильямс, которая была занята поисками своей манкирующей занятиями ученицы. Я заверил ее, что не видел Анджелы и что у нас в доме ее не было.
По-моему, мисс Уильямс заметила, что я несколько не в себе. Она смотрела на меня с любопытством. Но я, разумеется, не стал рассказывать ей о том, что произошло. Я посоветовал ей пройти за дом — у Анджелы была там любимая яблоня, — а сам поспешил к бухте, откуда на лодке переправился на другую сторону, в Олдербери.
Мой брат уже ждал меня на берегу.
Мы направились к дому тем же путем, каким в прошлый раз прошли с вами. Если вы помните, как расположено поместье, то поймете, что, проходя мимо ограды Оружейного сада, мы не могли не услышать разговор в саду.
Кэролайн и Эмиас о чем-то спорили, но предмет их спора у меня интереса не вызвал.
Никаких угроз со стороны Кэролайн я не услышал. Речь шла об Анджеле — Кэролайн просила отложить ее отъезд в школу. Эмиас, однако, был неумолим, говорил, что все решено окончательно и он сам ее проводит.
Калитка сада отворилась как раз в ту секунду, когда мы с ней поравнялись, и оттуда вышла Кэролайн. Она была расстроена, но не более того. Она несколько рассеянно улыбнулась мне и сказала, что они говорили об Анджеле. В эту минуту на дорожке появилась Эльза, и, поскольку было совершенно очевидно, что Эмиас хочет продолжить работу, а мы ему мешаем, мы все втроем двинулись к дому.
Филип потом отчаянно ругал себя за то, что мы тогда ничего не предприняли. Я же придерживаюсь иного мнения. У нас не было никаких оснований считать, что замышляется убийство. (Более того, теперь я уверен, что оно вовсе не замышлялось.) Было ясно, что нам следовало что-то предпринять, но я по сей день убежден, что мы были обязаны тщательно все обсудить, прежде чем действовать, тем более что меня не раз брало сомнение, не ошибся ли я. Действительно ли бутылка была накануне полной? Я не из тех людей (в отличие от моего брата Филипа), которые всегда во всем уверены. Память порой играет с человеком злую шутку. Как часто, например, ты убежден, что положил предмет на одно место, а потом обнаруживаешь его совсем в другом. Чем больше я старался припомнить, сколько настойки было в бутылке накануне, тем больше сомневался — я уже абсолютно ни в чем не был уверен. Это ужасно раздражало Филипа, который просто рвал и метал.
Мы так ни до чего толком и не договорились и решили продолжить разговор после ленча. (Должен заметить, что мне было позволено без особого приглашения являться к ленчу в Олдербери.)
Затем Анджела и Кэролайн принесли нам пива. Я спросил у Анджелы, почему она не слушается, и сказал, что мисс Уильямс сердится, но она ответила, что купалась, и добавила, что не видит смысла зашивать кошмарную старую юбку, раз ей все равно нужно ехать в школу — разумеется, она поедет туда только с новыми вещами.
Поскольку возможности поговорить с Филипом наедине так и не представилось, а мне, кроме того, очень хотелось еще раз поразмыслить обо всем самому, я решил пройтись по дорожке к Оружейному саду. Как раз над садом, где я вам уже показывал, на прогалине среди деревьев стояла старая скамья. Я уселся там с трубкой, думал и смотрел на Эльзу, которая позировала Эмиасу.
Мне она навсегда запомнилась такой, какой я видел ее в тот день. В желтой рубашке, в темно-синих брюках, с красным пуловером на плечах — дул холодный ветер, — а она неподвижно сидела на стене.
Ее лицо лучилось оживлением и здоровьем. Она радостным голосом вещала о планах на будущее.
Получается, я вроде бы как подслушивал, на самом деле это было совсем не так. Эльза, сидя на стене, меня прекрасно видела. И она, и Эмиас, оба знали, что на самом деле они не одни. Она помахала мне рукой и крикнула, что Эмиас ведет себя чудовищно, не давая ей ни минуты отдыха. Она вся окоченела.
Эмиас проворчал, что он еще больше окоченел. Что у него все мышцы затекли. «Бедный старичок!» — засмеялась Эльза. А Эмиас сказал, что ей всю жизнь придется мириться с инвалидом, у которого ломит суставы.
Меня потрясла эта их легковесная беседа о совместном будущем, ведь они причиняли столько страданий другим. И тем не менее я не смог бы ее упрекнуть. Она была такой юной, такой уверенной в себе, такой влюбленной. И она не ведала, что творит. Она просто не представляла еще, что такое страдание. С детской наивностью она считала, что с Кэролайн «ничего не случится» и что «вскорости она обо всем забудет». Она не думала ни о чем, кроме того, что они с Эмиасом будут счастливы. У нее не было сомнений, ее не терзали угрызения совести, она не испытывала жалости. Но можно ли ждать жалости от безмятежной юности? Это чувство знакомо людям более зрелым и умудренным опытом.
Они не так много разговаривали. Ни один художник не занимается болтовней во время работы. Примерно каждые десять минут Эльза что-то ему говорила, а Эмиас нехотя бурчал ей в ответ. Один раз она сказала:
— По-моему, ты прав, начать надо с Испании. Туда мы поедем прежде всего. И ты поведешь меня на корриду. Наверное, это очень здорово. Только я бы была не против, если бы бык победил, а не наоборот. Я понимаю римлянок, что они испытывали, видя, как умирает гладиатор. Люди, в сущности, не представляют собой ничего хорошего, в отличие от животных, которые всегда прекрасны.
Она и сама напоминала прекрасную кошечку — юное дитя природы, еще не постигшее ни печального опыта, ни сомнений. По-моему, она даже не умела размышлять, она только чувствовала. Но в ней было так много жизни, гораздо больше, чем в любом из моих знакомых…
В последний раз я видел ее такой уверенной в себе — победительницей. Но за триумфом обычно грядет поражение…
Прозвучал гонг на ленч, я встал и прошел к калитке Оружейного сада, где ко мне присоединилась Эльза. Солнце было такое яркое-яркое, что било в глаза. Я даже зажмурился, но потом сумел рассмотреть, как Эмиас, откинувшись на спинку скамьи, смотрит на картину. Я часто видел его в таком положении. Откуда мне было знать, что яд уже начал действовать?
Он ненавидел болеть. Он не признавал болезни. Наверное, решил, что у него что-то вроде солнечного удара — симптомы очень схожи, — но считал ниже своего достоинства жаловаться.
— Он не пойдет на ленч, — сказала Эльза.
Про себя я подумал, что правильно сделает.
— Тогда — до свидания, — сказал я.
Он оторвал глаза от картины и медленно перевел взгляд на меня. Было что-то странное — как бы это сказать? — какая-то злость во взгляде… Во всяком случае, явное недоброжелательство.
Естественно, я тогда не понял — когда у него в картине что-то было не так, как ему хотелось, он всегда злился. Вот я и решил, что именно в этом причина его злости. Он, мне показалось, даже что-то буркнул.
Но ни Эльза, ни я ничего не заподозрили — просто темперамент художника.
Поэтому мы оставили его наедине с картиной и вместе отправились к дому, смеясь и болтая. Если бы она только могла предположить, бедное дитя, что в последний раз видит его живым… Слава богу, она этого не знала. И в своем неведении могла еще немного побыть счастливой.
За ленчем Кэролайн вела себя как обычно — разве что казалась слегка озабоченной. Не доказывает ли это, что она не имела никакого отношения к трагедии? Не могла же она быть такой актрисой.

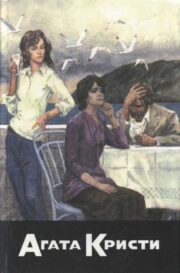



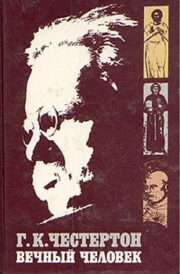
Агата Кристи предлагает нам захватывающую историю о преступлении и поиске преступника. Она производит настоящее впечатление!
Захватывающее чтение!
Эта книга Агаты Кристи предлагает нам захватывающую историю о преступлении и детективном расследовании. Я был поглощен и захвачен каждой страницей.
Незабываемые моменты!
Захватывающие открытия!
Агата Кристи предоставляет нам интригующий приключенческий роман, полный загадок и преступлений. Я был под впечатлением от ее тонкого письма и искусства построения истории.
Агата Кристи предоставляет нам захватывающий и загадочный приключенческий роман, который привлекает внимание и заставляет думать.
Захватывающие приключения!
Эта книга предлагает нам невероятное приключение, полное загадок и захватывающих моментов. Она действительно заслуживает внимания!
Книга Агаты Кристи полна увлекательных приключений и загадок, которые привлекут внимание любого читателя.
Отличное писательское мастерство!
Незабываемое чтение!
Очаровательные персонажи!
В этой книге присутствуют интригующие подробности и захватывающие детали, которые помогают читателю погрузиться в мир Агаты Кристи.
Захватывающие повороты сюжета!
Интригующая история!
Захватывающие детали!