Она лежала в своей спальне в трактире «Ямайка».
Вид ненавистной ей комнаты, холодной и тоскливой, по крайней мере был защитой от ветра и дождя, и от рук Гарри-разносчика. И шума моря она тоже не слышала. Рев волн больше не потревожит ее. Если сейчас придет смерть, она будет союзницей; существованию она больше не рада. Так или иначе, из нее уже выжали жизнь, и тело, лежащее сейчас на кровати, ей не принадлежало. Мэри не хотела жить. Потрясение превратило девушку в куклу и отняло у нее силы; глаза ее налились слезами жалости к самой себе.
Потом над ней наклонилось лицо, и Мэри отшатнулась, вжавшись в подушку и защищаясь выставленными вперед руками, ибо толстые губы и гнилые зубы разносчика не выходили у нее из головы.
Однако за руки ее взяли ласково, и глаза, смотревшие на нее, покраснели от слез, как и ее собственные; они были робкие и голубые.
Это оказалась тетя Пейшенс. Они прижались друг к другу ища в близости утешение; и после того, как Мэри поплакала, освобождаясь от горя и позволив приливу чувств дойти до предела, природа снова взяла свое: девушка окрепла, часть прежней смелости и силы снова вернулись к ней.
— Ты знаешь, что случилось? — спросила Мэри, и тетя Пейшенс крепко сжала ей руки, так, что их было не отнять; голубые глаза молча молили о прощении. Она напоминала животное, наказанное за чужую провинность.
— Сколько я пролежала? — расспрашивала Мэри.
Оказалось, пошел второй день. Минуту-другую Мэри молчала, обдумывая эту информацию, новую для нее и неожиданную: два дня — долгий срок для того, кто всего несколько минут назад смотрел, как на берегу занимается рассвет. Многое могло произойти за это время, пока она лежала здесь, в постели, беспомощная.
— Надо было меня разбудить, — грубо сказала девушка, отталкивая льнущие к ней руки. — Я не ребенок, чтобы со мной нянчиться из-за нескольких синяков. Мне нужно кое-что сделать; ты не понимаешь.
Тетя Пейшенс погладила племянницу. Ласка была робкой и безрезультатной.
— Ты не могла двигаться, — прохныкала она. — Твое бедное тело было все в крови и ушибах. Я искупала тебя, пока ты была без сознания; сперва я подумала, что они тебя покалечили, но, слава Богу, ничего страшного не случилось. Ушибы пройдут, а долгий сон тебя успокоил.
— Ты знаешь, кто это сделал, да? Ты знаешь, куда они меня возили?
Горечь пережитого сделала Мэри жестокой. Она знала, что ее слова хлещут тетю, как плеть, но не могла остановиться. Она начала говорить о людях на берегу. Теперь пришел черед старшей женщины испугаться, и когда Мэри увидела, как работают тонкие губы, с каким ужасом смотрят на нее выцветшие голубые глаза, она стала противна себе самой и не смогла продолжать. Девушка села на кровати и спустила ноги на пол; от этого усилия у нее закружилась голова и застучало в висках.
— Куда ты? — Тетя Пейшенс нервно ухватилась за нее, но племянница оттолкнула ее и принялась натягивать на себя одежду.
— Это мое дело, — резко ответила она.
— Дядя внизу. Он не даст тебе уйти из трактира.
— Я его не боюсь.
— Мэри, ради тебя, ради меня, не серди его больше. Вспомни, что тебе уже пришлось пережить. С тех самых пор, как дядя вернулся с тобой, он сидит внизу, бледный и страшный, с ружьем на коленях; двери трактира заперты. Я знаю: то, что ты видела, ужасно, это просто не выразить словами. Но, Мэри, неужели ты не понимаешь: если ты сейчас спустишься вниз, дядя может снова ударить тебя, а может, даже убить?.. Я никогда не видела его таким. Я ни за что сегодня не поручусь. Не ходи вниз, Мэри. Я на коленях тебя прошу — не ходи.
Пейшенс ползала по полу, цепляясь за юбку Мэри, хватая ее за руки и целуя их. Зрелище было жалкое, обезоруживающее.
— Тетя Пейшенс, я достаточно натерпелась из-за преданности тебе. Ты не можешь требовать от меня большего. Чем бы ни был для тебя когда-то дядя Джосс, сейчас он — не человек. Все твои слезы не спасут его от правосудия; ты должна это понять. Он — зверь, взбесившийся от бренди и крови. На берегу он убивал беззащитных людей; неужели ты не понимаешь? Они тонули в море. Эта картина стоит у меня перед глазами. Я до самой смерти не смогу думать ни о чем другом.
Мэри опасно возвысила голос; у нее вот-вот могла начаться истерика. Девушка была еще слишком слаба, чтобы мыслить последовательно. Она представляла себе, как выбежит на большую дорогу и будет громко звать на помощь, которая, конечно, окажется не за горами.
Тетя Пейшенс слишком поздно взмолилась о молчании; ее предостережение осталось втуне. Дверь открылась; хозяин трактира «Ямайка» стоял на пороге комнаты. Он нагнул голову под притолокой и смотрел на них. Вид у него был измученный и мрачный; порез над глазом все еще алел. Трактирщик был грязный и небритый, под глазами — черные тени.
— Мне показалось, что я слышу во дворе голоса, — сказал он. — Я подошел к щели в ставнях, внизу, в гостиной, но никого не увидел. Вы что-нибудь слышали здесь, в этой комнате?
Никто не ответил. Тетя Пейшенс помотала головой; робкая нервная улыбка, которую она выдавливала из себя в присутствии мужа, неуверенно проползла по лицу помимо ее воли. Трактирщик сел на кровать, теребя руками одежду, беспокойно переводя глаза с окна на дверь.
— Он придет, — сказал дядя. — Он должен прийти. Я сам себе перерезал горло; я пошел против него. Он предупредил меня однажды, а я посмеялся над ним; я не послушался. Я хотел вести игру по своим правилам. Теперь мы обречены, все трое, сидящие здесь — ты, Пейшенс, и ты, Мэри, и я. Нам конец, говорю я вам: наша карта бита. Почему вы позволяли мне пить? Почему вы не перебили все эти проклятые бутылки, не заперли меня на замок и не оставили там? Я бы ничего вам не сделал; я бы и пальцем вас не тронул, обеих. А теперь слишком поздно. Это конец.
Джосс Мерлин смотрел то на одну, то на другую женщину, его налитые кровью глаза были пусты, шея утонула в массивных плечах. Тетя с племянницей тоже уставились на него, ничего не понимая, ошеломленные и напуганные выражением его лица; такого они раньше не видели.
— Что это значит? — спросила наконец Мэри. — Кого ты боишься? Кто тебя предупредил?
Дядя покачал головой и поднес к губам руки с беспокойно двигающимися пальцами.
— Нет, — медленно сказал он. — Я сейчас не пьян, Мэри Йеллан; мои секреты пока еще принадлежат мне самому. Но одно я тебе скажу — тебе тоже нет спасения; ты теперь втянута во все это так же, как и Пейшенс — у нас теперь кругом враги. С одной стороны — закон, а с другой… — Трактирщик не договорил и всё так же хитро взглянул на Мэри. — Тебе хочется узнать, правда? Тебе хочется выскользнуть из дома с этим именем на губах и предать меня. Тебе хочется увидеть, как меня повесят. Ладно, я тебя не виню: ведь я причинил тебе столько боли, что ты будешь это помнить до конца своих дней. Но я ведь и спас тебя, правда? Ты не подумала, что бы с тобой сделал этот сброд, если бы меня там не было?
Трактирщик рассмеялся и сплюнул на пол; он снова стал отчасти таким, как прежде.
— Уже за одно это ты можешь поставить мне хорошую отметку, — сказал он. — Прошлой ночью никто, кроме меня, тебя не тронул, а я не испортил твое хорошенькое личико. Ведь царапины и синяки проходят, правда? Что ж, бедняжка, ты не хуже меня знаешь, что я мог поиметь тебя в самую твою первую неделю в трактире «Ямайка», если бы захотел. В конце концов, ты ведь женщина. Ей-богу, ты сейчас лежала бы у моих ног, как твоя тетя Пейшенс, раздавленная, довольная и преданная, еще одна чертова проклятая дура. Пошли отсюда. Эта комната воняет сыростью и гнилью.
Дядя с трудом поднялся на ноги и потащил Мэри за собой в коридор; когда они вышли на площадку, он швырнул ее об стену, под свечой, воткнутой в скобу, так что свет упал на ее исцарапанное, в синяках лицо. Он взял племянницу руками за подбородок и с минуту держал так, поглаживая царапины нежными, легкими пальцами. Мэри смотрела на него с ненавистью и отвращением: изящные, грациозные руки напомнили ей обо всем, что она потеряла и от чего отказалась; и когда дядя склонил свое ненавистное лицо ниже, не обращая внимания на Пейшенс, которая стояла рядом с ним, и его губы, так похожие на губы его брата, на миг приблизились к ее губам, иллюзия оказалась ужасной и полной. Мэри вздрогнула и закрыла глаза. Трактирщик задул свечу. Женщины, не говоря ни слова, последовали за ним вниз, и их шаги гулко разносились по пустому дому.
Дядя привел их в кухню, и даже там дверь была заперта и окна закрыты ставнями. На столе горели две свечи.
Затем трактирщик повернулся лицом к женщинам и, притянув к себе стул, сел на него верхом и стал изучать их, нашаривая в кармане трубку и набивая ее.
— Мы должны продумать план кампании, — сказал он. — Мы просидели здесь уже почти два дня, как крысы в ловушке, дожидаясь, пока нас схватят. Говорю вам: с меня довольно. Я не могу играть в такие игры; от них у меня начинается белая горячка. Если уж не избежать драки, то, ради всего святого, давайте драться в открытую.
Некоторое время дядя попыхивал трубкой, задумчиво глядя в пол и постукивая ногой по каменным плитам.
— Гарри достаточно верен, — продолжал он, — но он взорвет дом у нас над головой, если подумает, что ему это выгодно. Ну, а остальные — они разбежались по всей округе, визжа, поджавши хвосты, как жалкие шавки, перепугавшись на всю жизнь. Да и меня тоже это напутало, если хотите знать. Ладно, я сейчас трезвый, и вижу, в какую дурацкую, отвратительную историю я вляпался. Нам еще повезет, всем нам, если мы выберемся из нее и нас не повесят. Ты, Мэри, можешь смеяться, если хочешь, но тебе, с твоим беленьким высокомерным личиком, будет так же скверно, как и нам с Пейшенс. Ты тоже увязла в этом по самую шею; тебе несдобровать. Почему вы меня не заперли, я спрашиваю? Почему вы не удержали меня от пьянства?
Жена подкралась к нему и вцепилась в его куртку, проводя языком по губам и готовясь заговорить.


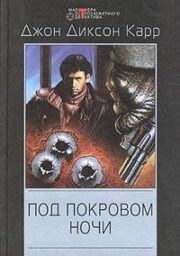
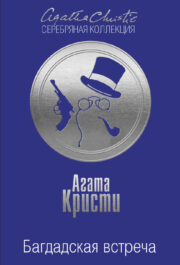
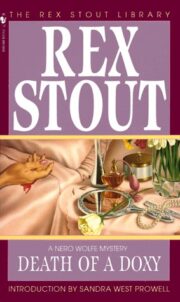
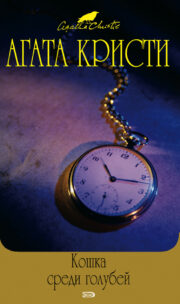
"Трактир «Ямайка»" отзывы
Отзывы читателей о книге "Трактир «Ямайка»", автор: Дафна дю Морье. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Трактир «Ямайка»" друзьям в соцсетях.