И в этот момент мистер Саттерсуэйт резко прекратил свои медитации. Его мысли слишком мрачны и бесполезны. Никто лучше его не знает, что жена почти наверняка ненавидела бы его или он – ее, а дети были бы постоянным источником беспокойства и волнения и что их претензии на его любовь и свободное время только усиливали бы его мучительное беспокойство.
– Комфорт и спокойствие, – твердо произнес мистер Саттерсуэйт, – именно в этом заключается смысл жизни.
Последняя мысль напомнила ему о письме, полученном утром. Он достал его из кармана и с удовольствием перечитал еще раз. Начать с того, что письмо было от одной герцогини, а мистер Саттерсуэйт любил получать весточки от герцогинь. Правда, письмо начиналось требованием сделать взнос в один из благотворительных фондов, и если бы не это, то, скорее всего, никогда не было бы написано, но составлено оно было настолько приятно, что мистер Саттерсуэйт забыл о причинах его написания.
«Итак, Вы решили покинуть Ривьеру – писала герцогиня. – А на что похож этот Ваш остров? Каковы цены? Канотти бесстыдно поднял цены в этом году, и я больше сюда не приеду. Может быть, если Ваши впечатления будут положительными, на будущий год я тоже попробую Ваш остров. Хотя пять дней на пароходе для меня чересчур. Так Вы, значит, относитесь к тем людям, которых не интересует ничего, кроме собственных удобств и комфорта? Вас может оправдать только одна вещь на свете, Саттерсуэйт, – Ваш неизбывный интерес к жизни других людей…»
Сложив письмо, мистер Саттерсуэйт ясно представил себе герцогиню. Ее вредность, ее неожиданную и пугающую доброту, ее острый язычок, ее неукротимое жизнелюбие…
Жизнелюбие! Каждый должен любить жизнь.
Мистер Саттерсуэйт достал еще одно письмо, на которое была приклеена немецкая марка – оно было написано молодой певицей, которой он патронировал. Это было письмо, полное сердечных благодарностей.
«Как я смогу отблагодарить Вас, мой дорогой мистер Саттерсуэйт? Восхитительно знать, что через несколько дней я буду петь Изольду…»
Жаль, что ее дебютной партией стала Изольда. Очаровательное, трудолюбивое дитя, Ольга, с прекрасным голосом и с полным отсутствием какого-либо темперамента. Он промурлыкал про себя: «Пусть страх внушит мое веленье: жду вассала я, Изольда!»[40] Нет, у этого дитя нет этого – этого жизнелюбия, этого неукротимого желания, которое выражается в последних словах «Ich Isolde!»[41].
И все-таки приятно сознавать, что он кому-то помог. Этот остров действует на него угнетающе. Зачем, ну зачем, в самом деле, он покинул Ривьеру, которую так хорошо знал и где все так хорошо знали его? Здесь он никого не интересовал. Никто, кажется, не осознавал, что перед ними тот самый мистер Саттерсуэйт, друг Герцогинь и Графинь, Писателей и Певцов. Ни один из живущих на острове ничего не представлял из себя ни в социальной, ни в артистической сферах. Большинство людей приезжало сюда семь, четырнадцать или двадцать один год подряд, и другие оценивали их, как и они сами себя, только по количеству сезонов, проведенных здесь.
С глубоким вздохом мистер Саттерсуэйт направился от отеля вниз, в сторону небольшого раскидистого залива. Его дорога пролегала мимо квартала лачуг – пятна, бравирующего своими яркими цветами, – который заставлял его чувствовать себя еще старше и потасканней, чем когда-либо.
– Я старею, – пробормотал он. – И начинаю уставать от жизни.
Мистер Саттерсуэйт обрадовался, что лачуги остались позади, и теперь шел по выгоревшей от солнца улице, в конце которой виднелось голубое море. Посреди улицы стояла беспородная собака, которая зевала и потягивалась в утренних лучах солнца. Потянувшись до последней степени экстаза, она села на задние лапы и стала с упоением чесаться. Потом встала, встряхнулась и осмотрелась кругом в поисках новых радостей, которые ей предлагала жизнь.
На обочине дороги лежала груда мусора, и она, принюхиваясь, направилась, в приятном ожидании, именно в ее сторону. И нос ее не подвел! Запах был таким густым, что превзошел все ее ожидания! Собака с восторгом понюхала, а затем, внезапно забыв о всех приличиях, улеглась на спину и стала кататься в этих восхитительных помоях. Было видно, что сегодняшнее утро начиналось для нее в собачьем раю.
Наконец, слегка устав, она поднялась на ноги и опять вышла на середину улицы.
И в этот момент, совершенно неожиданно, из-за угла появился полуразвалившийся автомобиль, который наехал на нее и продолжил свой путь, даже не притормозив.
Собака поднялась на ноги и несколько мгновений смотрела на мистера Саттерсуэйта с немой укоризной, а потом упала на дорогу. Мистер Саттерсуэйт подошел и наклонился над ней. Та была мертва. Он продолжил свой путь, размышляя о жестокости и трагизме жизни. Какое странное немое осуждение светилось в глазах этой собаки! «Жизнь, – казалось, говорили они. – Прекрасный мир, в который я так верила! За что ты сделал это со мной?»
Мистер Саттерсуэйт прошел мимо пальм, за которыми были разбросаны белые домики; мимо черного пляжа из вулканического песка, на котором гремел прибой и с которого когда-то известный английский пловец был унесен в море, где и утонул; мимо бассейнов в скалах, в которых барахтались дети и пожилые матроны, называвшие это плаванием, – и по крутой извилистой тропинке поднялся на вершину скалы. Здесь, на самом краю, стоял дом, удачно названный «Вершиной мира». Белый дом, с закрытыми облупившимися зелеными ставнями, был окружен красивым садом, а проходящая под кипарисами тропинка вела к площадке на самом краю вершины, с которой можно было смотреть далеко-далеко на синее море, раскинувшееся далеко внизу.
Именно сюда и направлялся мистер Саттерсуэйт. Он полюбил этот сад у «Вершины мира», но к самой вилле никогда не подходил. Она выглядела пустой. Мануэль, садовник-испанец, желал прохожим доброго утра и галантно вручал дамам букеты, а джентльменам – отдельные цветки, которые можно было использовать как бутоньерку. От постоянных улыбок его лицо покрылось морщинами.
Иногда мистер Саттерсуэйт придумывал истории о владельцах виллы. Его любимой была история об испанской танцовщице, известной во всем мире своей красотой, которая спряталась здесь, чтобы никто не узнал, что ее красота померкла.
В своих мечтах он видел, как она в сумерках выходит из дома и прогуливается по саду. Иногда у него появлялось желание узнать у Мануэля всю правду, но он ему не поддавался, предпочитая свои фантазии.
Обменявшись с садовником парой слов и с благодарностью приняв от него оранжевый бутон розы, мистер Саттерсуэйт прошел под кипарисами к морю. Сидеть здесь, на краю отвесного обрыва, было необычно, но приятно. Это заставило его вспомнить «Тристана и Изольду» и начало третьего акта, когда Тристан и Курвенал ждут, а потом из моря появляется Изольда, и Тристан умирает у нее на руках («Нет, крошка Ольга никогда не сможет спеть Изольду, Изольду Корнуэльскую, которая любила и ненавидела, как настоящая королева…»). Мистер Саттерсуэйт поежился. Ему было холодно и одиноко… Что же он успел совершить в этой жизни? Ничего, абсолютно ничего. Даже меньше, чем та собака на улице…
От этих грустных мыслей его отвлек неожиданный звук. Мистер Саттерсуэйт не услышал шаги и узнал о том, что он не один, только по односложному английскому восклицанию «черт!».
Оглянувшись, он увидел молодого человека, который смотрел на него с явным удивлением и разочарованием. Мистер Саттерсуэйт сразу же узнал его – мужчина приехал накануне и уже успел его заинтриговать. Мистер Саттерсуэйт назвал его молодым человеком – и действительно, по сравнению с остальными живыми мощами, населявшими отель, тот был молод, хотя ему уже и было больше сорока, а скорее даже ближе к пятидесяти. Но, несмотря на возраст, слова «молодой человек» ему подходили – мистер Саттерсуэйт редко ошибался в таких вещах, – у него была какая-то аура бессмертия. Незнакомец походил на некоторых собак, которые до старости остаются щенками.
Этот парень никогда не вырастет, то есть так, как положено, подумал мистер Саттерсуэйт.
И тем не менее в нем не было ничего от Питера Пэна[42]. Он был холеный, почти пухлый, и у него был вид человека, успешного в материальном плане и никогда не отказывающего себе в маленьких жизненных удовольствиях. У него были почти круглые карие глаза, светлые волосы, подернутые сединой, маленькие усики и довольно румяное лицо с красными прожилками.
Главное, что заинтересовало мистера Саттерсуэйта, было то, что привело мужчину на остров. Он мог представить себе, как мужчина стреляет, охотится, играет в поло, гольф или теннис, занимается любовью с хорошенькими женщинами. Но на острове не было возможности для стрельбы или охоты, здесь не играли ни во что, кроме крикета, а категория хорошеньких женщин была в первую очередь представлена пожилой мисс Бабой[43] Киндерсли. Конечно, существовали творческие люди, которые восторгались красотами окружающей природы, но мистер Саттерсуэйт был абсолютно уверен, что молодой человек к ним не относится. На нем была явная печать простого обывателя.
Пока мистер Саттерсуэйт прокручивал в голове все эти мысли, мужчина заговорил, поняв, хотя и с некоторым опозданием, что его восклицание могло быть сочтено не совсем вежливым.
– Прошу прощения, – сказал он в смущении, – я был сильно удивлен. Я не ожидал встретить здесь кого-нибудь.
Он обезоруживающе улыбнулся – у него оказалась приятная улыбка, дружелюбная и привлекательная.
– Да, – согласился с ним мистер Саттерсуэйт. – Место это довольно уединенное. – И он подвинулся, освобождая место на скамье. Мужчина принял это за немое приглашение и присел.
– Вот уж не знаю насчет уединенности, – сказал он. – Здесь все время кто-то есть.
В его голосе послышалось скрытое разочарование. «Интересно почему?» – подумал мистер Саттерсуэйт. Сам он рассматривал мужчину скорее как родственную душу. Но откуда тогда это стремление к одиночеству? Может быть, у него здесь назначено свидание? Нет, не похоже… Он опять осторожно, но пристально взглянул на своего компаньона. Где он совсем недавно видел такое выражение глаз? Это выражение молчаливого осуждения…


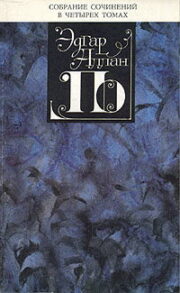

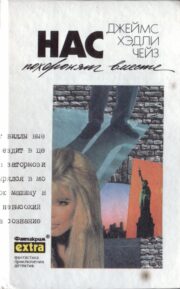

Отличный план действий!
Неожиданные повороты сюжета.
Незабываемое чтение!
Загадочный герой!
Запоминающиеся персонажи и их истории.
Увлекательное чтение!
Захватывающие моменты!
Незабываемое чтение.
Интригующие детали!
Прекрасно описанные персонажи!
Захватывающая история!
Захватывающие детали и описания.
Запоминающиеся обстоятельства!
Очаровательная история о приключениях и загадках.
Захватывающая атмосфера происходящего.
Я прочитала книгу Агаты Кристи «Таинственный мистер Кин» и была поражена ее умением привлечь внимание и захватить читателя. Детали и подробности представлены так хорошо, что я почувствовала, будто я присутствую на месте событий. Книга полна загадок и приключений, и мне было интересно последовать за главным героем в его поисках разгадки. Это прекрасное произведение подарило мне много часов увлекательного чтения.
Непредсказуемые окончания.