Сегодня около пяти часов вечера неожиданно рухнул старинный дом, который, как считалось, был построен еще в пятнадцатом веке. Он стоял на улу Лессер-Кольман-стрит и Эллиот-Сквер, рядом со штаб-квартирой Ветеринарного общества. Большинство жильцов, напуганных оглушительным треском, успели выскочить на улицу, однако три человека: Джеймс Билль, Вильям Мэрсон и какая-то женщина, имя которой установить не удалось, — были придавлены обрушившейся им на голову лавиной бревен и камней. Двое сразу скончались, а третий, Джеймс Билль, оказался под огромным бревном и громко взывал о помощи. Принесли пилу, и один из жильцов, Самюэль Хокин, доблестно пытался освободить несчастного. Пока он пилил бревно, рядом с ним, среди обломков, начался пожар, и, хотя он держался до последнего и продолжал работу, пока сам не оказался в огне, спасти Билля не удалось. Тот, вероятно, скончался от удушья. Хокин был доставлен в больницу, и сейчас его жизнь вне опасности.
— Вот так-то! — заключил Мейли, складывая газету. — А теперь, мистер Фома неверующий, я предоставляю вам самому делать выводы, — и с этими словами ярый поборник спиритизма удалился — столь же стремительно, как и вошел.
Глава XI В КОТОРОЙ САЙЛАС ЛИНДЕН ПОЛУЧАЕТ ПО ЗАСЛУГАМ
Сайлас Линден, лжемедиум и бывший чемпион, знавал в жизни и неплохие деньки — деньки, богатые событиями, к каким бы последствиям, плохим или хорошим, они ни вели. Был момент, когда он поставил сто против одного на кобылу по кличке Розалинда, а затем на выигрыш пил, не просыхая, сутки подряд. Было и так, что его излюбленный правый апперкот в высшей степени точно и артистично совместился с выступающим подбородком Булла Уордела из Уайтчепла, что в значительной степени приблизило его к получению Пояса Лонздейла. — высшей награды боксеров-профессионалов. Но во всей его разнообразной жизни не выдавалось еще такого дня, как этот, поэтому нам имеет смысл пройти его с Сайласом до конца. Религиозные люди утверждают, что человеку с нечистыми помыслами опасно прикасаться к духовному. Жизнь Сайласа Линдена в полной мере могла стать подтверждением подобной точки зрения. Чаша его грехов была переполнена задолго до того, как пробил час расплаты.
Когда он покинул дом Алджернона Мейли, у него были все основания утверждать, что хватка у лорда Рокстона хоть куда. В пылу битвы он едва ли мог осознать понесенный им телесный ущерб, но теперь, за порогом дома, он стоял, держась рукой за изрядно помятое горло, не уставая извергать все новые проклятья. Его грудь болела там, где Мелоун придавил ее коленом, и даже единственный удачный удар, отбросивший Мейли к стене, не прошел для него даром, ибо был нанесен той самой покалеченной рукой, на которую он жаловался брату. Словом, Сайлас Линден пребывал в безобразном настроении, и на то имелись существенные причины.
— Я еще доберусь до вас, — злобно бормотал он, косясь своими поросячьими глазками на дверь, откуда его только что выставили. — Погодите, я вам еще покажу! — Затем, внезапно озаренный какой-то мыслью, он пошел вниз по улице.
Направился он к полицейскому участку на Бардсли-Сквер, где зашел к инспектору Мерфи, румяному и жизнерадостному здоровяку с лихо закрученными усами.
— Ну, зачем пришел? — не очень-то дружелюбно спросил инспектор. — Я слыхал, вы взяли одного медиума за жабры.
— Да, есть такое дело. Оказывается, он твой брат.
— Ну и что? По мне что брат, что сват. Главное, вы получили подсудимого и обвинительный приговор. А где моя доля?
— У меня для тебя ни шиллинга.
— Что?! Да разве не я вас навел?! Что бы вы делали, если бы я не указал вам, где его логово?
— Если бы ему присудили штраф, может, я бы и выговорил тебе что-нибудь, да и нам бы перепало. Но мистер Мелроуз отправил его в тюрьму, так что никому ничего не обломилось.
— Врете вы все. Уж эти две бабы свое получили. И с какой стати мне сдавать полиции родного брата, чтобы с этого поживилась ваша братия? В следующий раз сами ищите себе подсудимого.
Мерфи был человек вспыльчивый, и к тому же с обостренным чувством собственной значимости, и вовсе не собирался сносить оскорбления в собственном кабинете. Он покраснел и поднялся из-за стола. — Вот что я тебе скажу, Сайлас Линден. Я мог бы сам найти все, что мне нужно, не выходя из этой комнаты. А ты лучше убирайся отсюда, да поскорей, иначе придется задержаться здесь чуток подольше, чем тебе хотелось бы. У нас и на тебя есть жалобы: ты дурно обращаешься со своими детьми, и благотворительное общество уже начало проявлять к этому делу интерес. Смотри, как бы мы тоже тобой не заинтересовались. Сайлас Линден вылетел из комнаты вне себя от гнева, и даже пара стаканчиков рома, которые он перехватил по дороге домой, не привела его в чувство. Напротив, он принадлежал к породе людей, которые только распаляются от выпивки. Мало кто из его дружков соглашался пить с ним. Сайлас жил в одном из небольших кирпичных домов, образующих улицу Болтонс-корт, что расположена на задворках Тоттенхэм-Корт-роуд. Дом стоял в конце улицы, в тупике, причем одна из стен была общей с пивоварней. Комнатушки в домах были настолько малы, что обитатели квартала предпочитали проводить время на улице. Когда в свете единственного фонаря показалась коренастая фигура Сайласа, старики, вышедшие подышать свежим воздухом, проводили его неодобрительным взглядом: хотя моральные устои Болтонс-корта были невысоки, некоторая социальная градация там все-таки существовала, причем Сайлас занимал в ней последнее место. У порога своего дома стояла Ребекка Леви, высокая худая еврейка с крючковатым носом, — она жила как раз по соседству с нашим чемпионом. К ее ногам, держась за подол, жался ребенок. Глаза ее сверкали от гнева. — Мистер Линден, — сказала она, когда Сайлас поравнялся с ней, — вам следует лучше присматривать за детьми. Сегодня ко мне приходила малышка Марджери. Девочка всегда голодна!
— Не суй свой нос в чужие дела, черт тебя подери! — прорычал в ответ Сайлас. — А я ведь уже тебя предупреждал. Будь ты мужчиной, мы бы иначе с тобой поговорили!
— Будь я мужчиной, ты бы вряд ли осмелился так со мной говорить. Стыдно, Сайлас Линден, так обращаться с этими несчастными крошками. Если дело дойдет до суда, уж я найду, что сказать.
— Пошла к черту! — ответил Линден, ногой открывая дверь своей халупы. Из гостиной выглянула крупная, неряшливо одетая женщина с копной крашеных волос и остатками былой красоты, некогда цветущей, а теперь несколько перезрелой.
— А, это ты, — сказала она.
— А ты думала кто? Герцог Веллингтонский?
— Я думала, это взбесившийся бык сорвался с цепи и вперился рогами в нашу дверь.
— Шутишь, да?
— Считай, что так, хотя особого повода для шуток нет. В доме ни гроша, все пиво выпили, да еще от этих твоих паршивых детей одно расстройство.
— Что они еще натворили? — хмуро спросил Сайлас.
Когда эта достойная чета не находила повода повздорить друг с другом, они объединялись против детей. Сайлас прошел в гостиную и плюхнулся в кресло.
— Им опять являлось видение твоей первенькой.
— Ты-то откуда знаешь?
— А я слышала, как он что-то такое говорил девчонке. Мол, матушка была здесь. А потом с ним случился один из его припадков. — Это у него в крови.
— Ну, конечно, — ответила женщина. — А работают за него пусть дураки. — Заткнись, женщина! У моего братца Тома тоже случаются припадки, а этот парень — точная копия своего дядюшки. Так, говоришь, он впадал в транс? Ну, а ты что?
Женщина злобно ухмыльнулась.
— Я поступила так же, как ты.
— Что, опять капала на него сургучом?
— Так, чуть-чуть. Только чтобы разбудить. Это единственный способ привести его в чувство.
Сайлас пожал плечами:
— Берегись, малышка. Что-то нас стали последнее время полицией пугать, а уж если там увидят ожоги, то мы оба рискуем оказаться за решеткой.
— Сайлас Линден, ты дурак! Разве мать не имеет права наказывать собственных детей?
— Конечно, имеет, но это не твой ребенок, а о мачехах всегда идет дурная слава. Да еще эта проклятая еврейка… Когда ты в прошлый раз стирала белье, она видела, как ты била Марджери бельевой веревкой. Она сама мне об этом сказала. А сегодня еще привязалась, что, мол, девчонка голодна.
— Ишь ты, голодна! Прожорливые ублюдки! Я, когда обедала, по целой краюхе им дала! Да им бы не повредило немножко поголодать, по крайней мере, грубить перестали бы.
— Что? Вилли тебе нагрубил?
— Да, когда очнулся.
— Это после того, как ты вылила на него горячий сургуч? — Так для его же блага, чтобы отучить от дурных привычек. — Что же он сказал?
— Обругал меня последними словами, вот что. Про мамочку свою говорил — уж она бы, говорит, мне бы показала. От этой его мамочки меня просто тошнит.
— Ты Эми лучше не трожь. Она была хорошей женщиной.
— Вон как ты запел. Однако когда она была жива, ты как-то странно проявлял свою любовь.
— Заткни пасть! И так тошно, а тут еще ты со своей болтовней! Нашла чего — к могиле ревновать!
— А ее выродки могут меня оскорблять как угодно! Это меня-то, которая заботилась о тебе последние пять лет!
— Чего к словам цепляешься! Ладно, я с ним сейчас поговорю. Где ремень? Тащи сюда мальчишку!
Женщина бросилась его целовать.
— Сайлас, единственный ты мой!
— Черт возьми, всего обслюнявила. Видишь, я не в духе. Живо тащи Вилли! И Марджери заодно. Пусть смотрит и набирается ума — сдается мне, до нее эта наука доходит лучше, чем до него.
Женщина вышла, но тут же вернулась.
— Он опять в отключке, — сказала она. — Меня от одного его вида тошнит. Иди-ка сюда, Сайлас, да сам посмотри!
Они прошли в кухню. В очаге потрескивал огонь. На стуле возле огня, съежившись, сидел белокурый мальчик лет десяти. Его нежное личико было обращено к потолку, глаза полуприкрыты, из-под век виднелись только белки. На тонком одухотворенном лице застыло выражение безмятежности и покоя. Из угла на брата смотрели печальные, испуганные глаза сестренки, бедной затравленной малышки, на год или два младше его.



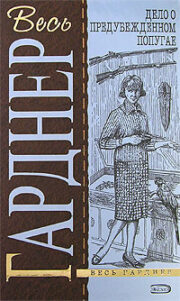


"Страна туманов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страна туманов", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страна туманов" друзьям в соцсетях.