Джон Кристоу откинулся в кресле. Теперь он свободен. Может подняться к Герде и детям, волен до новой недели забыть про болезни и страдания. Однако, он все еще испытывал странное нежелание двигаться, думать, хотеть.
Он устал, устал, устал…
Глава 4
А в столовой Герда Кристоу не сводила взгляда с бараньей ноги. Возвращать ее на кухню разогреть или нет? Если Джон задержится еще — все вконец застынет, и это будет ужасно. Но с другой стороны, если отправить, а последний больной ушел, и Джон вот-вот появится… Ведь Джон так нетерпелив. «Ты же прекрасно знала, что я сейчас буду…»
Эту срывающуюся интонацию она хорошо знала и боялась ее. Кроме того, налицо была опасность передержать, а Джон не терпел пересушенного мяса. Но, с другой стороны, остывшие блюда он также не выносил, и при любых обстоятельствах еда должна быть аппетитной и горячей. Мысль ее металась как птичка в клетке, а тревога и страдания углублялись. Мир для нее сузился до размеров бараньей ноги, стынущей на блюде.
Двенадцатилетний Теренс изрек со своего конца стола:
— Соли бора горят зеленым пламенем, соли натрия — желтым.
Герда в недоумении воззрилась на его широкое веснушчатое лицо, не в силах сообразить, о чем речь.
— А ты это знаешь, мама?
— Что знаю, дорогой?
— Про соли?
Глаза Герды тревожно скользнули по солонке. Ну да, соль и перец на столе. Все в порядке. На той неделе Льюис забыла их поставить, чем вызвала раздраженную тираду Джона. Всегда что-то да находилось…
— Это один из химических опытов, — сказал Теренс мечтательно. — По-моему, страшно интересно.
Девятилетняя, с милой глупенькой мордашкой, Зека захныкала:
— Я есть хочу, мама, уже можно?
— Минуточку, милая, мы должны подождать папу.
— Мы можем начинать, — сказал Теренс. — Папа возражать не будет. Ты же знаешь, как он быстро ест.
Герда покачала головой. Резать мясо? Но она не могла припомнить, с какой стороны положено втыкать нож. Возможно, конечно, что Льюис развернула блюдо правильно. Но она порой путала, а Джон всегда злился, если мясо порезано неправильно. И Герда с безнадежностью осознала, что, когда это проделывала она, непременно так и оказывалось. Ну вот, подливка совсем остыла — уже подернулась салом. Она должна отправить блюдо на кухню. Но если как раз придет Джон…
— конечно, он тут-то и появится. Ее неприкаянная мысль описывала круги как загнанный зверь.
Развалясь в кресле, постукивая ладонью по столу и сознавая, что наверху его ждут к обеду, Джон Кристоу был, однако, не в силах заставить себя подняться.
САН-МИГУЭЛЬ… СИНЕЕ МОРЕ… ЗАПАХ МИМОЗ… АЛАЯ СКАБИОЗА НА ФОНЕ ЗЕЛЕНИ ЛИСТВЫ… ЖАРКОЕ СОЛНЦЕ… ЭТА БЕЗНАДЕЖНОСТЬ ЛЮБВИ И МУК…
«Господи, только не это, — подумал он. — С меня хватит…» Ему захотелось вдруг никогда не знать Вероники, не быть женатым на Герде, не встречать Генриетту…
Миссис Крэбтри стоила целой роты таких. Как худо было ей под вечер на той неделе. А он был совершенно доволен реакциями. Она свободно могла переносить 005. И вдруг этот тревожный рост токсикоза, а реакция ДЛ становится отрицательной вместо положительной. Старая перечница лежала мрачная, тяжело дыша, буравя его злобным, неукротимым взглядом.
— В морскую свинку меня превращаете, а, дорогуша? Опыты ставите — вот хорошенькое дело!
— Мы хотим помочь вам, — сказал он, улыбаясь.
— Опять за свои сказки! — она вдруг ухмыльнулась. — Да нет, чего уж вас крыть. Валяйте, доктор. Кому-то же надо быть первым, верно? Меня девчонкой, помню, завили. Тогда и вполовину так больно не было. Выглядела я потом вроде негра. Гребенку не могла продрать. Но тогда это была забава мне. Теперь вы можете мной позабавляться. Уж я-то выдержу.
— Чувствуете себя неважно? — он держал руку на ее пульсе. Его жизненная сила передавалась тяжело дышащей старухе.
— Вроде угадали: чувствую жутко! Что, не выходит, как вы думали, а? Не переживайте. Не падайте духом. Я двухжильная, все стерплю!
Джон Кристоу сказал с уважением:
— Вы славная. Хотел бы я, чтобы все мои больные были такими.
— Я выздороветь хочу — вот в чем дело! Хочу выздороветь. Мамаша прожила до 88, а когда бабушка преставилась, ей было 90. Все наши живут долго, все.
Он уходил пристыженным, озадаченным, полным сомнений. Он был так уверен в правильности выбранного лечения. Где он проглядел ошибку? Как снизить токсикоз и поддержать гормональный уровень? Надо же быть таким самоуверенным, считать как дважды два, что он обошел все препоны!
И вот тогда-то, на ступенях больницы св. Христофора безнадежное отчаяние вдруг сломило его — вражда ко всей этой тягостной, опостылевшей работе в больнице. И, как по контрасту ко всей этой жизни, он вспомнил Генриетту, ее красоту, свежесть, здоровье, лучащееся жизнелюбие — и слабый цветочный запах ее волос.
Он отправился прямо к ней, коротко известив по телефону домашних, что у него вызов. Вбежав в студию, он без лишних слов схватил Генриетту в объятия, что было новинкой в их отношениях. Лишь испуг и удивление увидел он в ее глазах. Она высвободилась из его рук и предложила выпить кофе. Разгуливая по студии, она задавала ничего не значащие вопросы, вроде того — прямо ли он к ней из больницы или нет. А он не хотел говорить о больнице, он хотел любви Генриетты, а больницу, старую Крэбтри, болезнь Риджуэя и всю прочую дребедень, какая только есть, выкинуть из головы.
Но, сперва неохотно, а потом все подробнее, отвечал на ее вопросы, а вскоре уже расхаживал взад и вперед, разразившись потоком специальных объяснений и гипотез. Иногда он умолкал, соображая, как бы выразиться понятнее.
— Видишь ли, есть такая реакция…
— Да, да. Реакция ДЛ должна быть положительной, — быстро вставила Генриетта, — я понимаю, продолжай.
— Откуда ты знаешь о реакции ДЛ? — строго спросил он.
— Я достала книгу…
— Что за книга? Чья?
Она указала на маленький письменный стол. Он фыркнул.
— Скобелл? Чушь. Совершенно ненадежный источник. Вот что, если уж хочешь читать что-нибудь — не надо…
— Я лишь хотела понять некоторые термины из тех, что употребляешь ты. Ровно настолько, чтобы не останавливать тебя поминутно для разъяснений. Продолжай, я тебя хорошо понимаю.
— Ну, — проговорил он с сомнением, — не забывай только о несерьезности Скобелла.
И продолжал. Он говорил два с половиной часа. Произвел анализ препятствий, дал оценку возможностям, обрисовал вероятные теории. Он помнил о присутствии Генриетты. Не раз, когда он останавливался, ее быстрая реакция подталкивала его. Джон явно увлекся, и самоуверенности у него поубавилось. Он понял — Исходная теория верна. Способ борьбы с интоксикацией имелся, и не один.
Ему теперь все стало ясно. Он займется этим завтра же с утра. Позвонив Нейлу, велел испробовать комбинацию двух растворов. Да, испробовать. Господи, он и не собирался отступать!
— Не могу больше, клянусь, не могу. — И, повалившись, уснул как убитый.
Когда он проснулся, Генриетта улыбалась ему, накрывая стол к завтраку, и он улыбнулся ей в ответ.
— Не совсем то, на что я рассчитывал, — сказал он.
— А это важно?
— Нет, нет. Ты все-таки прелесть, Генриетта, — его взгляд переместился на книжный шкаф. — Если тебя интересуют такие проблемы, я дам тебе кое-что почитать.
— Меня не интересуют проблемы. Меня интересуешь ты, Джон.
— Только выброси книгу Скобелла, — он взял охаянную книгу. — Это — шарлатан.
Но она рассмеялась. Кристоу не мог сообразить, чем ее так позабавило замечание о Скобелле.
Это-то и поражало его в Генриетте. Открытием, сильно его обескуражившим, было то, что она может над ним смеяться. Он не привык к такому. Герда воспринимала его в высшей степени серьезно. А Вероника, та ни о ком, кроме себя, не думала. У Генриетты же была привычка глядеть на него полуприкрытыми глазами, откинув голову и внезапно легко и полунасмешливо улыбнуться, словно говоря: «Дайте-ка мне разглядеть получше эту забавную личность по имени Джон… Дайте-ка я отойду подальше и полюбуюсь на него…» Весьма сходным образом она прищуривается, разглядывая свою работу. Или какую-нибудь картину. И это была независимость, черт побери. А он не желал, чтобы Генриетта была независимой. Ему хотелось, чтобы Генриетта думала о нем одном и не позволяла своим мыслям отклоняться в сторону.
«Как раз то, что злит тебя в Герде», — подсказал его личный бесенок, выскочивший невесть откуда. Непоследовательность и впрямь была полнейшая. Он сам не знал, чего хочет. («Хочу домой» — какая-то чушь, смехотворное словосочетание. Оно ничего не означает.)
Через час, или что-то около того, он укатит из Лондона, выкинет из головы больных, вдохнет свежий запах сосен и мягкую влажность осенней листвы. Бег машины всегда действует на него успокоительно своим плавным, без усилия, нарастанием скорости. Но ему запрещено ездить, спохватился он, из-за небольшого растяжения запястья. За рулем будет Герда, и Герда, храни ее бог, никогда не сможет овладеть вождением. Каждый раз, когда она переключала скорость, он должен был сидеть, молча скрежеща зубами, ибо по горькому опыту знал, что стоит Герду поправить, как у нее сразу все пойдет еще хуже. Поразительно, но никто не был в состоянии научить Герду переключению скоростей — даже Генриетта. А Генриетте он поручил ее, решив, что Генриеттин энтузиазм преуспеет лучше его раздражительности.
Генриетта гозорила об автомобиле с таким вдохновением, с каким иной воспевал бы весну или первый подснежник.
«Разве он не прекрасен, Джон? Он так прямо и мурлычет, а? Мы будем в Бел-Хилле через три часа совсем без усилий. Вслушайся, что за плавное переключение!» И так могло продолжаться, пока он не восклицал гневно и резко: «А тебе бы не хотелось, Генриетта, уделить немного внимания мне, а эту чертову машину на минуту-другую забыть?»


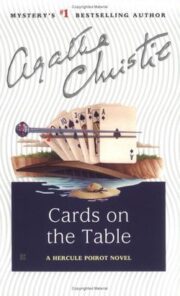



Захватывающая история!
Загадочное и захватывающее чтение!
Удивительное проникновение в мир детектива!
Ошеломляющее расследование!
Невероятное путешествие в мир преступления!
Захватывающие обстоятельства!
Захватывающие персонажи!
Захватывающий конец!