II
Замечательно, когда вступаешь в жизнь, имея собственное небольшое собрание действительно хороших книг. Поначалу вы можете не понимать их значения. Вас может тянуть к дешевым романам, полным самых невероятных и безвкусных приключений. Вы, возможно, и будете отдавать предпочтение им, но потом вам это наскучит, и в какой-нибудь дождливый день вы решите заполнить пустоту одной из тех по-настоящему достойных книг, которые так терпеливо дожидались, когда вы обратите на них внимание. И в этот день, который станет началом новой эпохи вашей жизни, вы вдруг почувствуете разницу. Вы увидите, и для вас это будет как вспышка молнии в небе, почему одни романы называют чтивом, а другие – литературой. Вы и после этого будете возвращаться к своим былым увлечениям, но теперь у вас появится почва для сравнения. Вы не сможете оставаться такими, какими были раньше. Постепенно хорошие книги станут вам дороже, они начнут оказывать влияние на ваш развивающийся мозг, станут частью того лучшего, что в вас заложено, и со временем у вас будет теплеть на сердце от одного взгляда на их корешки, потому что вы, как и я сейчас, вспомните, как много они для вас значили, и от этого полюбите их еще больше. Да-да, именно оливковые корешки романов Вальтера Скотта на моей полке подтолкнули меня к этим высокопарным словам. Это первые книги, которые я купил… Задолго до того, как смог оценить и даже понять их. Но потом-то я понял истинную ценность этого сокровища. Совсем еще мальчишкой я читал их по ночам при робком свете свечи, когда вокруг было темно и страшно, отчего дух захватывало еще больше. Вы, возможно, заметили, что «Айвенго» из другого издания. Оригинальный том был оставлен в траве у ручья, упал в воду и через три дня был найден бесформенным и распухшим в грязи на берегу. Правда, прежде чем потерять его, я успел зачитать эту книгу до дыр. К тому же хорошо и то, что прошло несколько лет, прежде чем была куплена замена пострадавшему тóму, потому что до его потери я не мог побороть в себе желание перечитать его еще раз вместо того, чтобы взяться за что-то новое.
Помню, покойный Джеймс Пейн{58} рассказывал мне историю о том, как он и несколько его друзей-литераторов решили выяснить, какую сцену в художественной литературе каждый из них считает самой драматичной. Каждый написал свой вариант на листе, и когда их сравнили, выяснилось, что все три выбрали одну и ту же. Это оказался эпизод из «Айвенго», когда в Ашби де ла Зуш{59} неизвестный рыцарь, проехав мимо галерей, где сидели зрители, ударил острым концом щит грозного храмовника{60}, что означало бой на смерть. Это и в самом деле восхитительная сцена. И разве важно, что храмовникам устав ордена запрещал участвовать в столь легкомысленных мирских забавах, как турниры. Привилегия великих мастеров – подменять истинные факты теми, которые нужны им, и неучтиво выступать против этого. Разве не Уэнделл Холмс{61} описывал буквоеда, входившего в гостиную вооруженным парой-тройкой фактов так, словно ведет с собой разъяренных бульдогов, которых готов спустить на любое проявление фантазии? Великий писатель не может ошибиться. Если Шекспир наделяет Богемию морским побережьем{62}, а Виктор Гюго английскому боксеру дает имя мистер Джим-Джон-Джек{63}, значит, так оно и есть, и на этом хватит. «В этом месте на железной дороге нет развилки», – сказал один редактор начинающему писателю. «А у меня будет», – ответил писатель, и он имеет на это право, если читатель поверит ему.
Но вернемся к «Айвенго». Что это за книга! Я считаю ее вторым по величине историческим романом, написанным на английском языке. Каждый раз, перечитывая его, я восхищаюсь им еще больше. Вообще, образы воинов у Скотта всегда в той же мере сильны, в какой слабы образы женщин (хотя есть и исключения), но в «Айвенго», где воины как всегда на высоте, романтическая фигура Ревекки не менее важна, чем остальные персонажи.
Скотт изображал сильных мужчин, поскольку сам был сильным мужчиной, ему это было интересно. Юных героинь он вводил в повествования, потому что того требовала традиция, и он не обладал достаточной смелостью, чтобы сломать ее. Лишь прочитав с десяток глав подряд, где присутствие женщин сведено до минимума (например, длинная часть романа от начала турнира до окончания того эпизода, где выступает брат Тук), мы начинаем понимать высоту романтического слога, который выдерживал он. Не думаю, что в современной литературе найдутся лучшие примеры.
Однако нельзя не признать, что романы Скотта в значительной мере грешат многословием. Бесконечные и ненужные введения – слишком толстая кожура, окружающая сочный плод. Сами по себе они красивы, остроумны и образны, но не имеют отношения и непропорциональны по отношению к тем историям, которые должны предварять. Как и о многом в нашей английской художественной литературе, о них можно сказать: все это хорошо, но не к месту. Отход от темы и неорганизованность повествования – наши национальные недостатки. Вспомните Теккерея{64}, который в свою «Ярмарку тщеславия» включил эссе на тему «Как прожить год, не имея денег», или Диккенса с его рассказами о привидениях{65}. С таким же успехом драматург может посреди спектакля выходить к рампе и начинать рассказывать анекдоты, пока актеры будут терпеливо дожидаться у него за спиной. Это неправильно, хотя нет ни одного великого писателя, который не грешил бы этим. Нам ужасно не хватает чувства формы, и Скотт грешил в этом отношении не меньше остальных. Но если думать не об этом, а о том, как он передает кульминационные моменты в своих произведениях, – кто может построить фразу лучше, кто подберет слова зажигательнее, чем сэр Вальтер? Помните, как отчаянный драгунский{66} сержант наконец встречается с жестоким пуританином{67}, за голову которого назначено вознаграждение:
«– Значит, или ложе из вереска, или тысяча мерков!{68} – воскликнул Босуэлл, обрушиваясь изо всех сил на Берли.
– Меч Господа и меч Гедеона!{69} – прокричал Белфур, отбивая удар Босуэлла и отвечая ему своим».
Никакого пустословия. Дух каждого из героев, да и тех партий, которые они представляют, передан несколькими короткими меткими словами, которые надолго остаются в памяти. «Луки и секиры!» – кричали саксонские{70} варяги, когда на них шла арабская конница. Читатель чувствует, что именно так они и кричали в действительности. Боевые выкрики отцов этих людей были еще короче во время того долгого дня, когда под флагом «Красного дракона Эссекса»{71} они отступали под натиском нормандской кавалерии на пологом склоне у Гастингса{72}. «Вон! Вон!» – кричали они. Коротко, сильно, просто – этот крик выражал дух нации.
Присутствуют ли в этом высокие чувства? Или, наоборот, они приглушены и надежно упрятаны, потому что слишком глубоки, чтобы выставлять их напоказ? Возможно и первое, и второе. Однажды я встречался с вдовой человека, который в юности, когда служил младшим сигнальщиком, получил от старшины-сигнальщика знаменитый приказ Нельсона{73} «Англия ожидает, что каждый исполнит свой долг…» и передал его своей корабельной команде. На офицеров он произвел впечатление. На матросов – нет. «Долг! Долг! – бормотали они. – Мы и так его выполняем!» Любые более-менее возвышенные слова не поднимают, а ослабляют боевой дух британца. Их сердцу милее сдержанность. Немецкие войска могут идти в атаку, распевая псалмы Лютера. Французы доводят себя до исступления песнями, превозносящими славу и отечество. Нашим авторам военных маршей не стоит сочинять нечто подобное или, по крайней мере, считать, что если они это сделают, такие произведения чем-то помогут британским солдатам. Наши военные моряки, обслуживающие тяжелые орудия на кораблях у берегов Южной Африки{74}, пели: «Еще кусочек сахарку для птички». Я видел, как один полк шел в бой, распевая «Лишь маленький кусочек»[4]. Вышеупомянутые сочинители военных маршей, если только они не обладают талантом и проницательностью Киплинга{75}, истратят попусту много чернил, прежде чем сумеют опуститься до такого же уровня и написать нечто подобное. В этом отношении русские не сильно отличаются от нас. Помню, я читал, что какой-то отряд поднимался на занятую врагами высотку и бойцы во все горло пели песню. Высотка была взята, остались в живых лишь немногие, но, когда смолкли выстрелы, песня по-прежнему звучала. Иностранный наблюдатель поинтересовался, что это за чудесный гимн, который вдохновил их на такой героизм, и, когда ему перевели бесконечно повторявшиеся слова песни, оказалось, что они пели про Ивана, который собирает в огороде капусту. Мне кажется, все дело в том, что для современных воинов простой монотонный звук служит тем же, чем для наших диких предков являлся бой тамтамов. Он словно гипнотизирует солдата и заставляет его упрямо идти вперед, не задумываясь об опасности.
Наши двоюродные братья по ту сторону Атлантики{76} точно так же склонны привносить комическое в самую серьезную работу. Возьмите песни: они пели их во время самой кровавой войны, в которую когда-либо ввязывалась англо-кельтская раса… Единственной войны, когда они сделали все, что было в их силах, и показали все, на что способны. «Марш, марш, марш»{77}, «Тело Джона Брауна»{78}, «Поход через Джорджию»{79} – все они полны юмора. Я знаю только одно исключение, и это самая потрясающая военная песня, которую я могу вспомнить. Даже человек, никогда не воевавший, вряд ли, прочитав ее слова, не почувствует прилив чувств. Конечно же, я имею в виду «Боевой гимн республики» Джулии Уорд Хоу{80}, начинающийся со строчки, которая исполняется хором: «Мои очи зрели славу тех, кто вышел из Христа». Если бы этот гимн пели на поле боя, результат, наверное, был бы потрясающим.
Долгое отступление, не правда ли? Но это худшее, что есть за волшебной дверью. Здесь нельзя высказать одну мысль, чтобы за ней не потянулась дюжина других. Но начал я с описания солдат у Скотта и говорил о том, что он не допускает ничего театрального, никаких поз, никакого героизма (именно тех вещей, которые больше всего ненавидит настоящий герой). Лишь короткое, выразительное слово и простые мужественные поступки. Все высказывания и метафоры следуют из естественного хода мысли. Как жаль, что автор, столь тонко чувствовавший солдатский дух, оставил так мало описаний воинов – своих современников, возможно, лучших воинов, которых знала история. Да, его перу принадлежит жизнеописание великого солдата-императора{81}, но в биографии писателя это – пример литературной поденщины. Мог ли патриот-тори{82}, все воспитание которого подготовило его к тому, чтобы видеть в Наполеоне злого демона, сохранить непредвзятое отношение к этой теме? Но в те дни Европа была полна материала, который Скотт как никто другой мог бы с толком использовать для работы. Что бы ни отдали мы за его портрет какого-нибудь легкого кавалериста из эскадрона Мюрата{83} или гренадера{84} старой гвардии, написанный такими же смелыми мазками, как ритмейстер Дальгетти{85} или лучники из личной гвардии французского короля в «Квентине Дорварде»{86}.




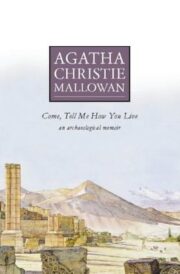
"Сквозь волшебную дверь. Мистические рассказы (сборник)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сквозь волшебную дверь. Мистические рассказы (сборник)", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сквозь волшебную дверь. Мистические рассказы (сборник)" друзьям в соцсетях.