Такое врезается в память навсегда.
Помню, когда мне было шестнадцать лет, я приехал в Лондон, и первое, что я сделал, освободившись от багажа, – отправился на могилу Маколея в Вестминстерское аббатство{38}, где он лежит в тени Аддисона рядом с прахом тех поэтов, которых он так любил. То было единственное, что привлекало меня в Лондоне. И, когда я думаю, чем я ему обязан, мне это не кажется удивительным. Эрудиция и тяга ко всему новому; мягкая, спокойная манера выражаться и широкий, свободный взгляд на жизнь, лишенный предрассудков и нетерпимости. Весь мой нынешний жизненный опыт полностью подтверждает мои тогдашние мысли о нем.
Как видите, справа от «Очерков» стоит четырехтомное издание «Истории». Припоминаете третью главу из нее, ту, в которой описывается Англия семнадцатого века? Это изумительное сочетание точности в фактах и легкости изложения для меня всегда было эталоном мастерства Маколея. Население городов, статистические данные о торговле, факты повседневной жизни – рука гения превращает все это в удивительное и захватывающее изложение. Порой кажется, что он смог бы и таблицу умножения сделать интересной, если бы имел на то желание. Давайте рассмотрим конкретный пример. Казалось бы, о том, что во времена, когда путешествия были не таким уж простым делом, оказавшийся в деревне лондонец чувствовал себя точно так же не в своей тарелке, как и деревенский житель, приехавший в Лондон, можно было бы и не говорить, это разумеется само собой, и упоминание об этом вряд ли может оставить в памяти читателя какой-то след. Но посмотрите, как об этом пишет Маколей. И это лишь один из сотен других параграфов, в которых обсуждаются сотни других тем!
«В удаленной от города деревне кокни{39} ощущал к себе такое же внимание, какое вызвала бы его персона, случись ему оказаться в краале{40} готтентотов{41}. С другой стороны, когда какой-нибудь землевладелец из Линкольншира{42} или Шропшира{43} появлялся на Флит-стрит{44}, отличить от местного населения его было так же легко, как турка или индийца. Его одежда, походка, выговор, то, как он смотрел на витрины магазинов, проваливался в сточные канавы, бегал за грузчиком или стоял под проливным дождем, делало его превосходной мишенью для разного рода жуликов и зубоскалов. Забияки норовили спихнуть его с дороги в кювет, извозчики специально наезжали на лужи, чтобы окатить его мокрой грязью с головы до ног, воры совершенно спокойно изучали содержимое огромных карманов его кучерской хламиды, пока он завороженно наблюдал за пышной процессией, устраивавшейся в день вступления в должность лорд-мэра{45}. Любители поживиться за чужой счет липли к нему со всех сторон и представлялись ему исключительно честными и приятными людьми. Самые вульгарные и опустившиеся девицы, которых гнали даже с Люкнер-лейн и Уэтстоун-парка, выдавали ему себя за графинь и фрейлин. Если он спрашивал дорогу в Сент-Джеймс{46}, ему указывали путь, который приводил его в Майл-энд. Если он заходил в магазин, ему тут же сбывался самый залежалый товар, который никто другой не взял бы и даром: старые вышивки, медные кольца, поломанные часы. Если ему случалось заглянуть в приличную кофейню, над ним откровенно смеялись высокомерные хлыщи и острили студенты-юристы из Темпла{47}. Взбешенный и испуганный, вскоре он возвращался в свою деревню, и там, в окружении домочадцев и за разговорами с друзьями, находил утешение и постепенно забывал об обидах и унижениях, через которые ему пришлось пройти. Там он снова становился большим человеком и не встречал никого выше себя по положению, кроме тех случаев, когда во время ассизов занимал место рядом с судьей или когда во время сборов в составе отряда народного ополчения приветствовал лорда-наместника»{48}.
По большому счету, я назвал бы этот отдельно взятый отрывок лучшим из его «Очерков», хотя он и из другой книги. Я считаю, что «История» как единое произведение не достигает уровня его более коротких сочинений. Создается впечатление, что все это взято из горячего выступления какого-нибудь ревностного вига и что мнению противной стороны ему следовало бы уделить больше внимания и места. Некоторые из его «Очерков», несомненно, несут на себе отголосок его политических и религиозных ограниченностей. Лучшими же я назвал бы те, в которых он выходит на широкие поля литературы и философии. Среди моих любимых: «Джонсон», «Уолпол»{49}, «Мадам д’Арбле»{50}, «Аддисон», два великолепных индийских очерка о Клайве и об Уоррене Гастингсе. «Фридрих Великий» также, несомненно, должен стоять в ряду лучших. Лишь один очерк я бы исключил из этого сборника. Это убийственная критика Монтгомери{51}. Приходится думать, что у Маколея сердце было слишком добрым, а душа слишком мягкой, раз он позволил себе такие нападки. Но плохая работа и сама пойдет ко дну, не стоит вместе с ней топить и ее автора. Хотя, если бы не она, мое мнение о Маколее было бы еще выше.
Я не знаю, почему разговор о Маколее всегда наводит меня на мысли о Вальтере Скотте, книгам которого (в выцветших обложках оливкового цвета), как видите, у меня отведена целая полка. Возможно, потому что восхищался я ими в равной степени и оба они оказали на меня одинаково большое влияние. А может быть, все дело в том, что в их умах и характерах столь много общего. Не видите между ними ничего общего, говорите? Но вспомните «Песни шотландской границы» Скотта{52}, а потом – «Песни Древнего Рима» Маколея{53}. Механизмы должны быть сходны, если производимые ими продукты настолько похожи. Это, кажется, единственные два поэта, которые могли бы писать стихотворения друг друга так, что никто не почувствовал бы разницы. Размах и напористость характерны для обоих. Какая у обоих страсть к военной теме и ко всему благородному! Слова очень простые и в то же время сильные. Но есть люди, которые силу и простоту слога не считают достоинством. Они полагают, что, если произведение просто для понимания, оно поверхностно, забывая при этом, что часто именно мелководный поток бывает мутным, а глубокая вода – прозрачной. Помните неумную критику Мэтью Арнольда{54} в адрес восхитительных «Песен Древнего Рима», когда он вопрошает «и это поэзия?», приведя в пример следующие строки:
Дано ль погибнуть краше,
Чем пред лицом врагов,
За веру предков наших
И прах святой отцов?[1]
Желая показать, что Маколей не обладает поэтическим даром, он доказал лишь то, что сам напрочь лишен чувства драматизма. Очевидно, его раздражают оголенность идеи и простота слога, хотя именно в них и заключается истинное достоинство этого произведения. Маколей передает простую, грубую речь обыкновенного солдата, который обращается к двум товарищам с призывом помочь в благородном деле. Любые высокопарные слова здесь были бы не к месту и шли бы вразрез с характером персонажа. Мне кажется, что такие строки в данном контексте как нельзя лучше соответствуют стилю баллады и обладают тем драматизмом и смысловой наполненностью, которые свидетельствуют о мастерстве поэта. Мнение Арнольда подорвало мое доверие к его таланту критика, и все же я многое могу простить человеку, который написал:
Залп еще один – и пусть,
Когда глаза закрою,
Мне суждено навек уснуть
Под крепостной стеною[2].
Душевный порыв передан совсем неплохо.
Человеческое общество еще не научилось понимать истинную ценность простых благородных слов. Когда это случится, они будут начертаны прямо на стенах домов во всех подобающих местах, и передвижение по городским улицам будет сопровождаться непрерывным впитыванием прекрасных мысленных порывов и образов, которые проецируются в наши души с печатных страниц. Когда думаешь о том, что люди проводят столько времени на улицах, думая «ни о чем», тогда как столько прекрасного остается не востребованным, становится горько и обидно. И я не имею в виду тексты Священного Писания, поскольку не для всех они имеют одинаковое значение, хотя я не знаю, как иначе можно понять призыв Христа работать днем, ибо за днем приходит ночь, когда человек работать не может{55}. Я говорю о тех прекрасных мыслях (кто скажет, что они не вдохновенны?), которые можно взять из стихотворений сотен поэтов и использовать для сотен разных благородных целей. Правильная мысль, высказанная красивым языком, – ценнейшее сокровище, его нельзя прятать от глаз, его нужно выставлять напоказ, его нужно использовать. За примером далеко ходить не надо. Через дорогу от моего дома стоит поилка для лошадей. Обычная каменная поилка, проходя мимо такой, человек не чувствует ничего, кроме, разве что, смутного раздражения от ее уродливого вида. А если бы на ее передней стенке были начертаны слова Колриджа{56}:
Тот молится, кто любит все —
Создание и тварь;
Затем, что любящий их Бог
Над этой тварью царь[3].
Я мог ошибиться в цитате, поскольку у меня под рукой нет «Поэмы о старом моряке»{57}, но даже в таком виде разве не сделало бы оно лошадиную поилку предметом более полезным? Мне кажется, все мы делаем нечто похожее для себя. Думаю, немного найдется таких людей, у которых каминная полка в кабинете не украшена каким-нибудь любимым изречением или цитатой. Еще лучше, если кредо несет на себе сердце. Слова Карлейла «Отдых, отдых… Разве меня не ждет целая вечность на отдых?» – хороший стимул для уставшего человека. Подобный подход нужно применить в масштабах всего общества, и тогда люди поймут, что мысль, высеченная на камне, так же прекрасна, как любой вырезанный узор, и что через глаза эта красота проникает прямиком в душу.
Впрочем, все это не имеет никакого отношения к прекрасным «Песням» Маколея, за исключением того, что, если вам нужны яркие примеры мужества и патриотизма, из них вы можете насобирать целый букет. Когда-то в детстве мне посчастливилось выучить песнь «Гораций» наизусть. И в моем восприимчивом уме она запечатлелась так, что и до сих пор еще я могу пересказать ее почти полностью. Голдсмит отмечал, что разговаривал Маколей, как человек, у которого на банковском счету тысяча фунтов, но состязаться с тем, у которого в кармане действительно лежит шесть пенсов, он не мог. Так и получается, что одна баллада, которая хранится в памяти, значит больше, чем целая полка книг, которые еще ждут своего часа. Но я хотел бы, чтобы вы переместили взгляд чуть дальше по полке, к оливково-зеленым обложкам. Это мое издание Скотта, но, прежде чем я перейду к нему, вам, разумеется, нужно немного отдохнуть.





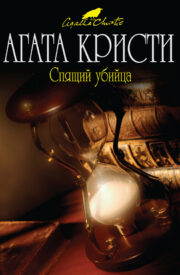
"Сквозь волшебную дверь. Мистические рассказы (сборник)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сквозь волшебную дверь. Мистические рассказы (сборник)", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сквозь волшебную дверь. Мистические рассказы (сборник)" друзьям в соцсетях.