Джоан не вполне понимала, что это значит, но ей это причиняло какую-то необъяснимую боль…
Джоан взглянула на часы. Не стоит бродить и перегреваться на солнце. Надо возвращаться в гостиницу. Утро прошло прекрасно – никаких случайностей, никаких неприятных мыслей, никакой агорафобии…
Какой-то ехидный голос внутри заметил: «Ты говоришь как больничная медсестра. Кем ты себя считаешь, Джоан Скюдамор? Инвалидом? Психически нездоровым человеком? И с какой стати так гордишься собой и вместе с тем ощущаешь такую усталость? Разве есть что-то исключительное в том, что ты приятно и нормально провела утро?»
Джоан вернулась в гостиницу и с радостью увидела, что к обеду для разнообразия подали консервированные груши.
Поев, она легла.
До чая можно спать…
Но спать не хотелось. Голова была ясной и свежей. Джоан лежала с закрытыми глазами, но все мышцы были напряжены, словно она чего-то ожидала… какого-то нападения.
Надо расслабиться, говорила себе Джоан, надо расслабиться. Но она не могла расслабиться. Нервы натянуты, сердце бьется, в голове теснятся неясные предчувствия.
Все это ей что-то напоминало. Она покопалась в памяти, и наконец на ум пришло верное сравнение – приемная зубного врача.
Ожидание чего-то очень неприятного, попытки переубедить себя, не думать об этом, и ощущение того, что каждая минута приближает тяжкое испытание…
Но какого испытания она ждет?
Что должно случиться?
Ящерицы, думала она, все ушли обратно в свои норы… потому что приближается гроза… затишье перед бурей… ожидание… ожидание…
Боже мой, мысли опять путались.
Мисс Гилби… дисциплина… духовное уединение…
Отшельничество! Медитация. Что-то типа повторения Ом… Теософия? Буддизм?
Нет, надо следовать своей религии. Размышлять о Боге. О любви к Богу. Богу… Отцу нашему на Небесах…
Или о своем собственном отце с его квадратно подстриженной, медного цвета бородой, глубокими проницательными голубыми глазами и любовью к тому, чтобы все в доме приводить в порядок. Доброжелательный поборник строгой дисциплины – таким был ее отец, типичный отставной адмирал. И мать – высокая, худая, рассеянная и неряшливая, с беззаботной щедростью, заставлявшей людей даже тогда, когда она их раздражала, находить ей всевозможные оправдания.
Мать приходила на вечеринки в разных перчатках, в помятой юбке, в шляпке, криво приколотой к копне чугунного цвета волос, радовалась и ничуть не стыдилась того, что в ее наряде что-то не в порядке. А адмирал всегда сердился на дочерей, а не на жену.
– Почему вы не можете присмотреть за матерью? Как вы допускаете, чтобы она ходила в таком виде! Я не терплю бездельниц! – гремел он.
И три девочки смиренно отвечали:
– Да, папа, – а потом говорили друг другу: – Все хорошо, но мама и вправду невозможна!
Джоан, конечно, очень любила мать, но эта любовь не заслоняла от нее того факта, что на самом деле ее мать была очень утомительной женщиной, – полное отсутствие порядка и последовательности едва ли искупалось ее веселой беззаботностью и добросердечием.
Джоан поразилась, когда, разбирая бумаги матери после ее смерти, наткнулась на письмо от отца, написанное в двадцатую годовщину их свадьбы.
«Я глубоко опечален, моя милая, что не могу быть сегодня с тобой. В этом письме я хотел бы сказать тебе о том, что все эти годы означала для меня твоя любовь и что ты мне теперь дороже, чем когда-либо прежде. Твоя любовь – это благословение моей жизни, и я благодарен Богу за это и за тебя…»
Джоан никогда не думала, что ее отец испытывал такие чувства к матери…
В декабре, подсчитала Джоан, будет двадцать пять лет, как мы с Родни поженились. Серебряная свадьба. Как было бы приятно, если бы он написал такое же письмо мне…
Она мысленно составила текст:
«Моя дражайшая Джоан, я чувствую, что должен написать обо всем том, чем я тебе обязан и что ты для меня значишь. Я уверен, ты не представляешь себе, каким благословением свыше стала твоя любовь…»
Почему-то, подумала Джоан, прервавшись на полуфразе, в это не слишком верится. Невозможно представить, чтобы Родни писал такое письмо… Как бы сильно он ее ни любил… Как бы сильно он ее ни любил…
Зачем так вызывающе повторять? Откуда этот озноб? О чем она думала до этого?
Конечно! Джоан вернулась к своим прежним мыслям. Она хотела заняться духовными размышлениями. А вместо этого думала о земных делах – об отце, матери, умерших много лет назад.
Умерли, оставив ее одну.
Одну в пустыне. Одну в этой комнате, похожей на тюремную камеру.
Где не о чем думать, кроме как о себе.
Джоан вскочила. Нет смысла лежать, если не можешь заснуть.
Она ненавидела эти комнаты с высокими потолками и маленькими, занавешенными марлей оконцами. Они берут тебя в осаду. Они заставляют тебя чувствовать себя маленькой, как насекомое. Как же Джоан хотелось оказаться в большой, просторной гостиной с приятным ярким кретоном, с потрескивающим за решеткой камином и множеством людей, людей, к которым ты можешь пойти и которые могут прийти к тебе.
О, поезд должен скоро прибыть – он не может не прибыть скоро. Или машина, или хоть что-нибудь…
– Я не могу здесь оставаться, – громко сказала Джоан. – Я не могу здесь оставаться!
(Разговаривать сама с собой, подумала она, – это очень плохой признак.)
Джоан выпила чаю и вышла прогуляться. Она чувствовала, что не может больше сидеть и думать.
Она будет ходить и не будет думать.
Мысли – вот что тебя расстраивает. Посмотри на людей, которые здесь живут, – на индийца, на арабского мальчика, на повара. Наверняка они никогда не думают.
Иногда я сижу и думаю, а иногда просто сижу…
Кто это сказал? Какой восхитительный подход к жизни!
Она не будет думать, она будет просто ходить. На всякий случай не слишком удаляясь от гостиницы – ну, просто на всякий случай…
Опишем большой круг. Потом еще один. Как зверь. Унизительно. Да, унизительно, но что делать. Ей надо быть очень, очень осторожной. Иначе…
Иначе что? Она не знала. Не имела ни малейшего представления.
Нельзя думать о Родни, нельзя думать об Эверил, о Тони, о Барбаре. Нельзя думать о Бланш Хэггард. Об алых бутонах рододендрона. (Особенно об алых бутонах рододендрона!) Нельзя думать о поэзии…
Нельзя думать о Джоан Скюдамор. Но это же я сама! Нет, не я. Да, я…
Если тебе не о чем думать, кроме как о себе, интересно, до чего можно дорыться?
– Мне неинтересно, – громко сказала Джоан.
Звук ее голоса удивил ее. Чему она так сопротивляется?
Битва, думала она, борюсь и проигрываю битву.
Но против кого? Против чего?
Неважно, думала она. Мне неинтересно…
Это хорошая фраза. Держись за нее.
Странное ощущение, словно кто-то ходит рядом с ней. Кто-то, кого она хорошо знает. Если повернуть голову… Ну, она повернула голову… Никого. Совсем никого.
Но ощущение, что рядом кто-то есть, не проходило. Родни, Эверил, Тони, Барбара – никто из них ей не поможет, никто из них не может ей помочь, никто из них не захочет ей помочь. Им нет никакого дела.
Она вернется в гостиницу и скроется от того, кто ее преследует.
Индиец стоял перед дверью. Джоан слегка покачивалась, когда шла. То, как он на нее смотрел, ее взбесило.
– Что такое? – спросила она. – В чем дело?
– Госпожа выглядит не очень хорошо. Может быть, у госпожи лихорадка?
Вот оно что. Конечно, так и есть. У нее лихорадка! Как глупо, что не подумала об этом раньше.
Джоан поспешно прошла в комнату. Надо измерить температуру и поискать хинин. Где-то у нее был хинин.
Она поставила градусник.
Лихорадка – конечно, это лихорадка! Бессвязные мысли, страхи, предчувствия, сильное сердцебиение.
Все чисто физическое.
Она вынула градусник и взглянула на него.
Температура нормальная.
Джоан еле-еле дотянула этот вечер. Она начала по-настоящему о себе тревожиться. Дело было не в солнце, не в лихорадке – это нервы.
Просто нервы – так говорят люди. Она сама говорила так о других. Но она не знала, что это такое. Теперь знает. Просто нервы, вот уж действительно! Нервы – это ад! Ей нужен доктор, приятный, полный сочувствия доктор, лечебница и добрая, заботливая сестра, которая все время при ней. «Госпожу Скюдамор нельзя оставлять одну». У нее же была отмытая добела тюрьма посреди пустыни, полуграмотный индиец, слабоумный арабский мальчик и повар, который прислал ей еду из риса, консервированного лосося, печеной фасоли и сваренных вкрутую яиц.
Все не так, думала Джоан, совсем не тот уход, который необходим в моем случае…
После ужина она пошла к себе в комнату и посмотрела на пузырек с аспирином. Оставалось шесть таблеток. Она приняла их все. На завтра ей ничего не оставалось, но она чувствовала, что должна что-то предпринять. Больше никогда, думала она, я не отправлюсь в путешествие, не взяв с собой снотворного.
Джоан разделась и легла.
Как ни странно, она почти сразу же заснула.
В ту ночь ей снилось, что она бродит по большому тюремному зданию с извилистыми коридорами. Джоан пыталась выйти оттуда, но никак не могла найти дорогу, хотя ее не покидало ощущение, что она ее хорошо знает…
Надо только вспомнить, твердила она себе, надо только вспомнить.
Наутро она проснулась вполне спокойной, хотя и усталой.



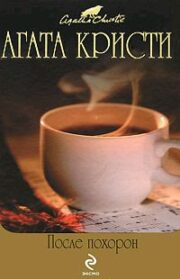
![Тайна бильярдного шара. До и после Шерлока Холмса [сборник]](https://detectiveworld.ru/wp-content/uploads/tajna-bilyardnogo-shara-do-i-posle-sherloka-holmsa-sbornik-180x265.jpg)

"Разлука весной" отзывы
Отзывы читателей о книге "Разлука весной", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Разлука весной" друзьям в соцсетях.