Признаюсь, меня задело то беззаботное согласие, с которым они говорили об общем будущем, не замечая, какие страдания причиняют другим. Но и упрекать ее я не мог. Такую юную, такую самоуверенную, такую влюбленную… Она действительно не понимала, что значит страдать. Со свойственной ребенку наивной уверенностью Эльза полагала, что Каролина будет «в порядке» и «скоро все переживет». Она не замечала никого вокруг и видела только себя и Эмиаса, счастливых вместе. Еще раньше Эльза сказала, что мои взгляды старомодные. Она ни в чем не сомневалась, никого не жалела, не испытывала угрызений совести. Но можно ли ждать жалости от счастливой молодости? Это чувство для других, тех, кто, пожив, набрался мудрости.
Разговаривали они, впрочем, мало. Художники работают молча. Примерно раз в десять минут Эльза отпускала какое-то замечание, на которое Эмиас отвечал коротко и односложно. Помню, она сказала: «Думаю, ты прав насчет Испании. Первым делом поедем туда. И ты обязательно отведешь меня посмотреть бой быков. Какое волнующее, должно быть, зрелище… Только хочу, чтобы бык убил человека, а не наоборот. Я понимаю, что чувствовали римлянки, когда видели, как умирают люди на арене. Люди не интересны, а звери замечательны».
Думаю, в некотором отношении она сама была животным – юным, примитивным существом, без горького человеческого опыта и исполненной сомнений мудрости за спиной. Мне кажется, Эльза еще не начала думать – она только чувствовала. Но жизненной энергии в ней было с избытком – живее ее я не знал никого. Такой ликующей, сияющей и бодрой я видел ее тогда в последний раз. Есть поверье, что буйное веселье предвещает грядущую смерть.
Гонг призвал к ланчу. Я поднялся и направился по тропинке вниз. У калитки Батарейного сада ко мне присоединилась Эльза. После тени солнечный свет бил в глаза. Эмиас полулежал на скамье, раскинув руки и глядя на картину. Я часто видел его в такой позе. Откуда мне было знать, что яд уже начал свою смертельную работу и сковывает члены?
Эмиас терпеть не мог болезни. И никогда не признался бы, что болен. Смею предположить, он объяснил бы слабость тем, что перегрелся на солнце – симптомы весьма схожи, – но жаловаться никогда не стал бы.
«Он не пойдет на ланч», – сказала Эльза.
По правде говоря, я подумал, что так оно к лучшему. «Тогда – пока».
Эмиас перевел взгляд с картины на меня. В этом взгляде – даже не знаю, как это описать – было что-то странное. Что-то, похожее на злобу.
Конечно, тогда я этого не понял – он нередко метал такой убийственный взгляд, когда у него не ладилось с картиной. Я подумал, что дело в этом. Эмиас издал какой-то звук, как будто пробурчал что-то.
И опять-таки ни Эльза, ни я не увидели в этом ничего необычного: художники – люди капризные и раздражительные.
Мы оставили его одного, а сами, смеясь и разговаривая, поднялись по тропинке к дому.
Если б она знала, бедное дитя, что никогда больше не увидит Эмиаса живым… Слава богу, она об этом не подозревала и еще могла – пусть и недолго – побыть счастливой.
За ланчем Каролина вела себя как всегда, разве что была озабочена чуть более обычного. Разве это не говорит о том, что она не имела к случившемуся никакого отношения? Сыграть такое невозможно.
Потом они с мисс Уильямс спустились в сад и нашли Эмиаса уже мертвым. Я встретил гувернантку, когда она спешила к дому. Мисс Уильямс сказала мне вызвать по телефону доктора, а сама вернулась в сад.
Бедное дитя… я говорю об Эльзе. Такую скорбь, такое отчаяние можно наблюдать только у детей, которые еще не ведают, на что способна жизнь.
Каролина же сохранила полное спокойствие. Да, полное спокойствие. Разумеется, она умела контролировать себя намного лучше, чем Эльза. Ни сожаления, ни раскаяния. Сказала лишь, что, должно быть, он сделал это сам.
Мы не могли в это поверить. Эльза взорвалась и открыто, во всеуслышание, обвинила ее в убийстве. Возможно, Каролина уже поняла, что подозрение может пасть на нее. Скорее всего, именно этим и объясняется ее поведение.
Филипп был убежден в ее виновности с самого начала.
Большую помощь и поддержку оказала тогда мисс Уильямс. Она заставила Эльзу лечь, дала ей успокоительное, а когда прибыла полиция, увела Анжелу. Да, эта женщина оказалась настоящей опорой.
Дальше начался кошмар. Полицейские обыскивали дом и задавали вопросы; потом, как мухи, слетелись репортеры – щелкали фотоаппаратами, приставали ко всем домашним с расспросами.
Кошмар…
И этот кошмар продолжается даже теперь, через столько лет… Ради бога, расскажите малышке Карле, что на самом деле случилось, убедите ее, что все так и было, тогда мы сможем забыть и никогда больше не вспоминать этот ужас.
Эмиас наверняка покончил с собой – как ни трудно было поверить в это.
Рассказ леди Диттишем
Я изложила здесь полную историю моего знакомства с Эмиасом Крейлом вплоть до его трагической смерти.
Впервые я увидела его на вечеринке в чьей-то студии. Помню, он стоял у окна, и я, едва войдя, сразу его увидела. Спросила, кто такой, и мне ответили: «Крейл, художник».
Я тут же заявила, что хочу с ним познакомиться. В тот раз мы говорили минут, может быть, десять. Когда кто-то производит на вас такое впечатление, какое произвел на меня Эмиас Крейл, пытаться описать его бессмысленно. Если я скажу, что, когда увидела Эмиаса, все остальные, кто там был, съежились и растворились, это будет, пожалуй, ближе всего к истине.
Сразу после той встречи я отправилась смотреть его картины. Какие только могла. Как раз в то время у него была выставка на Бонд-стрит, еще одну картину показывали в Манчестере, одну – в Лидсе и две – в публичных лондонских галереях. Я посмотрела все, а потом встретилась с ним снова и сказала: «Я видела все ваши картины. По-моему, они чудесны».
Его это позабавило. «А кто сказал, что вы разбираетесь в живописи и можете судить? Я не верю, что вы в этом что-то соображаете».
«Может быть, и нет, – ответила я. – Но они все равно изумительные».
Он ухмыльнулся. «Не будьте восторженной дурочкой».
«Я не такая. Хочу, чтобы вы меня написали».
«Если вы хоть что-то соображаете, то должны понять – я не пишу портреты хорошеньких женщин».
«Это необязательно должен быть портрет, и я не хорошенькая».
Вот тогда только он посмотрел на меня так, словно начал видеть по-настоящему. «Да, может быть, и нет».
«Так вы меня напишете?» – спросила я.
«А вы чудной ребенок», – сказал он.
«Деньги у меня есть, если дело в этом. Я в состоянии хорошо заплатить за работу».
«Почему вам так хочется, чтобы я написал вас?»
«Потому что я так хочу!»
«И это причина?»
«Да, я всегда получаю то, что хочу».
«Бедняжка, как же вы юны!»
«Вы меня напишете?»
Он взял меня за плечи, повернул к свету и внимательно на меня посмотрел. Потом отступил на пару шагов. Я стояла неподвижно. Ждала.
«Несколько раз у меня возникало желание написать стаю до невозможности пестрых австралийских попугаев, опускающихся на собор Святого Павла. Если писать вас на фоне традиционного пейзажа, результат, полагаю, будет такой же».
«Так вы будете меня писать?» – снова спросила я.
«Вы – прекраснейший, живейший и ярчайший образчик смешения экзотических красок. Я буду вас писать!»
«Тогда договорились», – сказала я.
«Но предупреждаю вас, Эльза Грир. Если я буду вас писать, то, вероятно, полюблю вас».
«Надеюсь…» Я произнесла это ровным, спокойным голосом и услышала, как он затаил дыхание. Его глаза блестели.
Вот так все было – вдруг.
Через день или два мы встретились снова. Крейл сказал, что мне нужно приехать в Девоншир, потому что там есть место, которое требуется ему для заднего плана.
«Я, как вам известно, женат и очень люблю жену».
Я заметила, что если он любит жену, то она, должно быть, очень милая.
«Необычайно милая, – подчеркнул он. – Она восхитительная, и я обожаю ее. Зарубите это себе на носу, юная Эльза».
Я сказала, что поняла.
Неделей позже он приступил к работе. Каролина Крейл встретила меня очень любезно. Я не очень-то ей нравилась, но, в конце концов, с какой стати я должна была ей понравиться? Эмиас был очень осторожен. Не сказал мне ни слова, которое не могла бы услышать жена. Я была вежлива и соблюдала все требуемые условности. Но мы оба всё понимали.
Через десять дней Крейл сказал, что мне придется вернуться в Лондон.
«Но картина не закончена», – возразила я.
«Она едва начата. Дело в том, Эльза, что я не могу писать вас».
«Почему?» – спросила я.
«Вы прекрасно знаете, почему. Поэтому вам нужно уехать. Я не могу сосредоточиться на работе, не могу думать ни о чем – только о вас».
Мы разговаривали в Батарейном саду. Был жаркий солнечный день. Пели птицы, гудели пчелы. Казалось бы, мир и покой. Но в воздухе висело ощущение чего-то тяжелого, трагического. Как будто что-то, что только должно было случиться, уже отражалось в атмосфере сада.
Я знала, никакого толка от моего возвращения в Лондон не будет, но все-таки сказала: «Хорошо, я уеду, если вы так говорите».
«Вот и молодец».
И я уехала.
Не писала.
Крейл продержался десять дней, а потом явился сам. Похудевший, измученный, несчастный – не узнать.




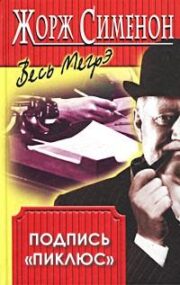
Агата Кристи прекрасно показывает предательство и искусство мстить.
Очаровательно!
Великолепное произведение!
Захватывающее!
Отличное произведение для любителей детективов.
Незабываемое!
Прекрасно!
Восхитительно!
Захватывающая история о предательстве и приключениях.
Великолепно!
Невероятно захватывающая и запоминающаяся книга.
Очаровательные персонажи и захватывающие приключения.
Отличное чтение!
Удивительно!
До последнего думала, что убийца Анджела!)