Я направился в свою комнатушку над парикмахерской на Фобур-Монмартр, где жил с осени. Зажег газ и придвинул стул к кровати, служившей мне столом. Я не снял пальто — было холодно.
Разложив на кровати два листа бумаги, одолженных у парикмахера, я обмакнул ручку в бутылочку с лиловыми чернилами — одолжил у него же — и с вожделением подумал о поджидавшем меня ужине: хлеб, колбаса и швейцарский сыр, а в конце сигарета «Кэмел». Итак, без былой ненависти и с надеждой, вспыхнувшей в душе, я сел и написал письмо отцу.
Это было довольно трудно, потому что мы никогда не были с ним близки. Я был членом семьи, у него в подчинении. Он воспринимал меня как привычную деталь своей повседневной жизни, как предмет обстановки — просто ребенок, потом подросток, у которого нет собственной внутренней жизни и который имеет значение лишь постольку, поскольку является сыном. Мы ни разу не обменялись какими-то значимыми словами, никогда у нас не было важных мгновений наедине, мы никогда не задумывались над нашими отношениями — до того самого дня, пока я не швырнул на его письменный стол свои стихотворения. Но даже тогда он не выдал своих чувств по отношению ко мне — лишь посмотрел вопрошающим взглядом, подняв на меня глаза. Я начал письмо к нему как незнакомец, пишущий незнакомцу, с трудом подыскивая слова, ошибаясь, не в силах взывать к сочувствию, зная, что невозможно объяснить все эти годы, проведенные в муках, которые в конце концов привели к сцене в библиотеке. Да я и не мог вернуться в прошлое. Я уже был другим и чувствовал иначе. С тех пор в моей жизни были корабли, и езда верхом в горах, и Джейк. Когда я писал письмо, то не мог правильно передать ощущения тех прежних дней. У меня получалась холодная констатация фактов, за ней не было глубины. Мне совсем не удалось описать Джейка — мой отец все равно ничего бы не понял. Я не мог написать ему: «Я встретил парня по имени Джейк, и он заставил меня увидеть вещи по-новому. Сейчас он мертв…» Что общего мой отец мог иметь с Джейком? Было бесполезно рассказывать ему об этом.
Мне совсем не хотелось падать ниц, быть смиренным и пристыженным; я не просил прощения — в этом моем новом состоянии не было чувства вины. Это был призыв к тому, чтобы он попытался понять меня, прочувствовать мою точку зрения, а главное — разделить со мной мое внезапное озарение: мне надо писать.
Я писал ему: «Не знаю, возлагал ли ты на меня большие надежды. Не знаю, был ли я для тебя настолько важен, чтобы ты во мне разочаровался. Когда я ушел из дома, ты, возможно, даже этого не заметил. Мы никогда не знали друг друга, но есть во мне нечто принадлежащее тебе, ты дал мне это бессознательно, и я жажду больше всего на свете, чтобы ты понял это. Какое бы безразличие и враждебность мы ни ощущали по отношению друг к другу, мы — часть друг друга, и с этим ничего не поделаешь. Возможно, создать меня было для тебя пустяком, ошибкой, но я живой — так же, как любое из твоих стихотворений. Я вышел из тебя, и мое тело, и моя кровь — твои, и даже если ты никогда этого не сознавал, ты позволил мне вырасти, ребенок стал юношей, и юность моя была каким-то необъяснимым и безнадежным образом отравлена твоим блеском. Мне навязывали твое величие, я был заброшен и одинок, остро ощущал свою неполноценность и страдал от этого, презирал заурядность, потому что был твоим сыном. Часто мне хотелось, чтобы ты умер, чтобы ты существовал отдельно от меня — как какая-то знаменитость, историями о которой я бы дорожил. Ты был бы кем-то с фотографии, о ком я мог бы фантазировать, мечтать, с улыбкой, обхватив руками колени, слушать рассказы матери о тебе. Это была бы другая мать — более нежная, более кроткая, — и мое лицо напоминало бы ей о тебе.
И я говорил бы себе: „Он был похож на меня, он бы понял“. Но нет, ты был жив, ты ходил по дому, а я был всего лишь мальчиком, слишком застенчивым, чтобы заговорить, так что с начала и до конца наши жизни не были связаны, как я того жаждал в глубине души и о чем усердно молился. Ты не был мне отцом, а я тебе — сыном.
Мне не хватало тех радостей, которые составляют жизнь других мальчиков: ты не носил меня на плечах, когда я был маленьким; не брал за руку, когда мне было страшно; не смеялся, глядя на меня снизу, когда я забирался на дерево или находил птичье гнездо; не играл со мной в мяч в поле; не клал мне руку на плечо. Я не мог подбежать и рассказать тебе что-то важное; не мог взволнованно потащить тебя за руку через лужайку, чтобы что-то показать; особенно мне тебя не хватало, когда я стал старше, — ты не был мне товарищем, не сидел со мной наедине, не беседовал со мной, не улыбался, обсуждая, чем мне заняться в жизни. Мне не хватало твоего тепла, ощущения того, что мы связаны прочными узами, не хватало блаженного чувства безопасности и сознания, что мы — часть друг друга и что ты меня понимаешь.
Меня ранило, что я так ужасно тобой горжусь, а ты об этом никогда не узнаешь, и вообще это тебе безразлично. Мне было больно оттого, что я никогда не мог сказать: „Мой отец и я — мы с отцом…“ Потому что это было бы неправдой».
Когда я перечитал эти слова, мне показалось, что в них звучит бессмысленный протест, но теперь слишком поздно, и это ничего не изменит. Я подумал, что он нетерпеливо пробежит их взглядом, и ему надоест читать, и в конце концов он подумает: «О чем это он? Наверное, ему нужны деньги». Поэтому я покончил с этой темой и перешел к своему намерению писать.
«До сих пор я в основном полагался на удачу, рыскал по свету, общался с людьми и учился разным вещам, а теперь я знаю, что все это меня больше не устраивает, что мне нужно писать. Я верю, что если останусь здесь, в Париже, то у меня получится, я отдам этому занятию всю свою энергию. Я не устану, я не буду расслабляться. Один парень, которого я знал — его уже нет на свете, — сказал, что если я чего-то очень захочу, если целиком этому отдамся, то получу это и у меня все будет хорошо. Думаю, он знал меня лучше, чем я сам. Понимаешь, мне было бы легче начинать, если бы я знал, что тебе об этом известно и что ты это одобряешь.
Когда ты получишь это письмо и если сразу захочешь выкинуть меня из головы, может быть, пришлешь мне письмо и так и напишешь? Это значило бы для меня так много, так много… Здесь, на Монмартре, я трачу на жизнь до смешного мало. Но главное, мне бы так хотелось получить от тебя письмо, чтобы я наконец знал: мы не разобщены, ты и я».
После этого был пропуск: я долго мучился в поисках слов, а потом сдался и приписал традиционные финальные фразы. Они звучали так официально и холодно, что это выглядело совсем уж по-детски: «Пожалуйста, передай мой привет маме. Надеюсь, вы оба здоровы и все у вас хорошо. Ричард».
Я отправил письмо в тот же вечер. Когда я закончил, была половина десятого, и я сразу же вышел, чтобы успеть к последней почте. Потом вернулся и поужинал. Был вторник, и я вычислил, что отец получит письмо не раньше чем в четверг утром, у себя за городом. Вероятно, ему понадобится день, чтобы его обдумать. Предположим, он напишет ответ в пятницу, успев к дневной почте, которая отправляется из Лессингтона в половине шестого — значит, его письмо придет в субботу. Нет, пожалуй, ответа следует ожидать не раньше воскресенья. Да, самое раннее — в воскресенье, а то и в понедельник. Мне придется в ожидании слоняться целых пять дней. Мысленно я буду путешествовать вместе с письмом, пересекать Па-де-Кале, лежать рядом с письмом в вагоне, отправляющемся из Паддингтона, наблюдать, как сортируют письма на почте в Лессингтоне, проделаю остаток пути в сумке почтальона, который, проехав по шоссе, свернет к воротам у сторожки и покатит по подъездной аллее.
Я уже пожалел, что отправил это письмо, — мне хотелось быть кем-нибудь другим, чтобы оно не имело ко мне никакого отношения.
Я вспомнил строчку, которую мог бы вычеркнуть, вспомнил предложение, которое можно было лучше сформулировать. И вообще я не сказал того, что хотел.
Прошли среда, четверг и пятница — безнадежные дни, когда я притворялся перед собой, что мне все равно. Я придавал этому делу слишком уж большое значение. В пятницу днем я очень долго бродил по Булонскому лесу, потом отправился обратно. Было холодно, и я никак не мог согреться. А когда вечером в пятницу я вернулся к себе домой на Фобур-Монмартр, поднялся наверх и открыл дверь, то увидел, что под дверь мне сунули конверт, надписанный на машинке.
Взяв его в руки, я подошел к окну и стоял несколько минут, ничего не делая. Потом зажег газ и, усевшись на кровать, вскрыл конверт.
Я извлек из него сложенный листок бумаги. Это был чек на пятьсот фунтов стерлингов. Письма не было. Я отложил чек и снова заглянул в конверт, чтобы проверить, не ошибся ли. Нет, там не было никакого письма. Я долго сидел с пустым конвертом в руках.
Глава вторая
Я нашел комнату на улице Шерш-Миди. Она была довольно большая, с центральным отоплением и неплохо обставлена. Она находилась на самом верхнем этаже здания, я мог поставить стол и стул у окна и смотреть на Париж.
В одной части дома располагался ювелирный магазин, в другой — лавка торговца антиквариатом.
Улица Шерш-Миди — одна из самых длинных в Париже. Я жил в той ее части, что выходит на бульвар Монпарнас, таким образом, я вернулся в квартал, который мне нравился, да и любимые кафе были рядом.
Мне нужно было какое-то время на то, чтобы устроиться на новом месте, осмотреться и купить пару нужных вещей. Всю осень я проходил в такой одежде, что смахивал на бродягу. Теперь я установил для себя регулярные рабочие часы, прерываясь только для того, чтобы поесть или передохнуть. Однако я не придерживался определенного времени — выходил поесть, только когда чувствовал голод, бросался на кровать и спал, лишь когда мой мозг как бы закрывался, словно ставень, и невозможно было продолжать. Конечно, так бывало часто. Я обнаружил, что мне невероятно трудно сосредоточиться. Я сидел у окна с листом чистой бумаги, и что-то стучало у меня в мозгу, просилось на волю, а потом мысли мои разбегались, и я не мог их контролировать. Но бывали дни, когда слова текли безо всяких усилий, наталкиваясь одно на другое, ручка прорывала бумагу, и я покрывал листы каракулями. Потом, раскрасневшийся и взволнованный, я перечитывал написанное и находил, что там нет ни смысла, ни вдохновения, фразы неуклюжие и плохо сформулированные, диалоги ходульные и неестественные, и основная часть того, что я написал, казалась мне в трезвые моменты необязательной и лишней для главной темы. К тому же я замерзал, сидя неподвижно, потому что почти все время плохо работало chauffage central.[22] Я постоянно сидел в пальто, плотно прикрыв окно, но пальцы у меня все равно немели от холода, и под этим предлогом я удирал из дома и, направившись к бульвару Монпарнас, заходил в кафе перекусить или выпить.



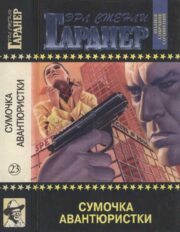
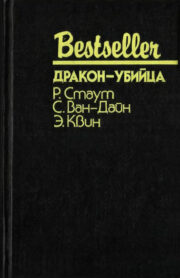

Дафна дю Морье подарила мне понимание того, что молодость не вечна, и мы должны принимать это.
Эта книга помогла мне принять мою возрастную идентичность и принять мою жизнь такой, какой она есть.
Эта книга показывает, как мы меняемся с годами, и как мы должны принимать эти изменения.