Надо сказать, когда подписали Тильзитский мир, я, простой лейтенант Десятого гусарского, не располагал ни особыми деньгами, ни долей в каком-нибудь предприятии. Правда, мой облик и отвага сослужили мне хорошую службу, и я успел уже снискать в армии славу превосходного фехтовальщика, но чтобы выделиться среди множества смельчаков, окружавших императора, нужно было что-то побольше этого. Однако я верил в свою звезду, хоть и представить не мог, в каком невероятном обличье придет ко мне удача.
В 1807 году, после заключения мирного договора, Наполеон возвратился в Париж и много времени проводил с императрицей и двором в Фонтенбло. То были дни его триумфа. После трех победоносных кампаний Австрия угомонилась, Пруссия встала на колени, а русские благодарили Господа, что успели сбежать за Неман. Старый бульдог по ту сторону Ла-Манша еще рычал, но не мог далеко отойти от своей конуры. Если бы тогда с войной покончили, Франция поднялась бы так высоко, как не поднимался еще ни один народ после римлян. Так говорили мудрые люди, правда, сам я в то время думал совсем о другом. Армия возвратилась из долгих походов, и все девушки были нам рады. Уверяю вас, я получил свою долю благосклонности. Вы поймете, как меня любили, если я скажу, что даже сейчас, на шестидесятом году… впрочем, стоит ли распространяться о том, что и так уже достаточно известно?
Наш гусарский полк и конные егеря Гвардии квартировали в Фонтенбло. Как вы знаете, это небольшое местечко, скрытое в сердце леса, и весьма странно было видеть там толпу великих герцогов, курфюрстов и князей, что теснились в те дни вокруг Наполеона, словно щенки вокруг хозяина в надежде, что им перепадет косточка. На улицах куда чаще французской слышалась речь немецкая, ибо союзники Франции в последней войне приехали просить награды, а враги – милости.
Каждое утро наш маленький капрал с бледным лицом и холодными серыми глазами отправлялся на охоту. Он скакал, погруженный в глубокие раздумья, а все эти люди следовали за ним, ожидая, не обронит ли он хоть слово. Если ему заблагорассудится, он мог подарить одному человеку огромные земли, а у другого отнять владения, увеличить королевство, проложив границу вдоль реки, или разделить его по горному хребту. Вот как вел дела этот артиллерист, которому наши сабли и штыки проложили дорогу к трону. Он всегда нас жаловал, понимая, кому обязан властью, и мы это знали тоже, а потому держали головы высоко. Конечно, для нас он был лучшим полководцем на свете, однако мы помнили, что под началом у него – лучшие в мире солдаты.
Так вот, однажды мы с юным Моратом из конно-егерского играли в карты у себя на квартире. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел Лассаль. Вы знаете, каким он слыл удальцом и щеголем, а уж в небесно-голубой форме Десятого от него и вовсе глаз было не отвести. Мы, желторотики, так его любили, что бранились, играли в кости, пили и строили из себя дьяволов, лишь бы походить на своего полковника! Мы не понимали, что Наполеон решил отдать под его начало легкую кавалерию вовсе не за пристрастие к выпивке и азартным играм, а потому, что во всей армии никто не умел так верно оценить местность или силу колонны, выбрать лучший момент для атаки на пехотное каре и заметить, где остались без прикрытия пушки. Нам, юнцам, это было невдомек, а потому мы вощили усы, щелкали шпорами и носили сабли пониже, стирая ножны о мостовую, в надежде, что станем Лассалями. Когда он, позвякивая шпорами, вошел в комнату, мы с Моратом вскочили.
– Мальчик мой, – сказал полковник, хлопнув меня по плечу, – в четыре тебя ждет император.
Все завертелось у меня перед глазами, и мне пришлось опереться на карточный стол.
– Что?! – воскликнул я. – Император?
– Именно, – ответил полковник, с улыбкой глядя на мое растерянное лицо.
– Но император даже не знает, что я существую. Как же он мог за мной послать?
– Это и меня удивило, – отвечал Лассаль, покручивая ус. – Если ему понадобилась верная сабля, зачем искать ее среди лейтенантов, когда у него есть я? Однако, – добавил он и снова добродушно хлопнул меня по плечу, – каждому светит счастливая звезда. Не иначе как я свою уже поймал, ведь я – полковник Десятого гусарского. Теперь пришла твоя очередь. Вперед, мой мальчик. Пусть это станет первым шагом вверх по лестнице, в конце которой ты сменишь кивер на двууголку.
Было только два часа, и Лассаль ушел, пообещав вернуться и проводить меня во дворец. Боже милосердный, что я за это время пережил, сколько предположений строил, гадая, что нужно от меня императору!.. Снедаемый волнением, я расхаживал взад-вперед по своей комнатке. Может, он узнал о пушках, которые мы захватили под Аустерлицем? Но пушки под Аустерлицем захватили многие, и с той битвы прошло уже два года. Или он хочет наградить меня за тот случай с адъютантом русского императора? Но тут я начинал думать, что меня вызывали из-за какой-то провинности, и сердце мое холодело. Было две-три дуэли, которые могли ему не понравиться, да и в Париже после заключения мира я успел немного покуролесить.
Нет! Я вспомнил, что сказал полковник о верной сабле, которая нужна императору.
Очевидно, Лассаль о чем-то догадывался. Не стал бы он меня поздравлять, если бы мне грозили неприятности. Я приободрился и сел писать своей матушке, что в эту самую минуту меня ждет император – хочет узнать мое мнение по одному важному вопросу. Я невольно улыбнулся, подумав, что это удивительное событие для нее станет лишь подтверждением того, что Наполеон – человек здравомыслящий.
В половине третьего я услышал, как по ступеням деревянной лестницы гремит сабля. Вошел Лассаль, а за ним – хромой господин в рубахе с элегантным жабо и манжетами и черном костюме. Мы, вояки, мало водили знакомство с гражданскими, но, клянусь, от этого человека отмахнуться было нельзя! Одного взгляда на блестящие глаза, смешной вздернутый нос и прямой, резко очерченный рот хватило мне, чтобы понять – передо мной персона, с которой считается сам император.
– Месье Талейран, разрешите представить вам Этьена Жерара, – сказал полковник.
Я отдал честь, и государственный муж смерил меня от султана до шпор взглядом, который был остр, как рапира.
– Вы рассказали месье Жерару, при каких обстоятельствах его потребовал к себе император? – спросил он сухим и скрипучим голосом.
Я не знал, на ком остановить взгляд, до того разными были эти двое: черный проныра-политик и плечистый великан в голубой форме, что стоял, уперев одну руку в бок, а другую положив на рукоять сабли. Оба сели, Талейран – бесшумно, Лассаль – звякнув шпорами, точно боевой конь – сбруей.
– Дело вот в чем, сынок, – начал полковник с обычной своей прямотой. – Сегодня утром, когда я был в кабинете императора, ему принесли записку. Развернув ее, он так вздрогнул, что она выпала у него из рук. Я подал ему бумажку, но император смотрел перед собой, точно ему призрак явился. «Fratelli dell' Ajaccio, – прошептал он и повторил: – Fratelli dell' Ajaccio». Итальянский за две кампании не выучишь, и я ничего не понял. У меня промелькнула мысль, что он сошел с ума. Вы бы и сами так решили, месье де Талейран, если бы видели его глаза. Он прочел записку и полчаса сидел, точно изваяние.
– А вы? – спросил Талейран.
– Я стоял, не зная, что делать. Наконец император пришел в себя. «Полагаю, Лассаль, – сказал он, – у вас, в Десятом, найдутся удальцы?» «Они все такие, ваше величество», – ответил я. «Есть ли среди них тот, кто хорош в действии, а думать слишком много не любит? Если вы понимаете, о чем я».
Ему требовался верный человек, который не станет задавать лишних вопросов.
«Да, есть один. Истинный гусар от усов до шпор, и на уме у него – только дамы и лошади». «Такой-то мне и нужен, – сказал Наполеон. – Пусть в четыре пополудни явится в мой кабинет». «Так что, сынок, я сразу отправился прямиком к тебе. Смотри же, не урони чести Десятого гусарского.
Соображения, по которым полковник склонился к своему выбору, ни в малейшей степени мне не льстили. Должно быть, своих чувств я скрыть не сумел, потому что полковник захохотал, а Талейран усмехнулся.
– Напоследок позвольте дать вам совет, месье Жерар, – сказал он. – Вам предстоит плавание в опасных водах, а штурман вы не такой искусный, как я. Между нами говоря, для нас, людей, от которых зависят судьбы Франции, необычайно важна осведомленность, однако никто из нас троих не знает, в чем дело. Вы меня понимаете?
Я представления не имел, к чему он клонит, но кивнул с таким видом, будто мне все ясно.
– Действуйте очень осторожно и никому ни слова, – продолжил Талейран. – Лучше, чтобы нас не видели вместе. Мы с полковником подождем здесь, а когда вы нам все расскажете, поможем вам советом. Ступайте. Его величество не прощает опозданий.
Во дворец я отправился пешком, поскольку до него было рукой подать. В приемной среди множества посетителей сновал Дюрок в новехоньком красном мундире с золотой вышивкой. Я слышал, как мой друг шепнул месье де Коленкуру, что половина этих людей – немецкие герцоги, которые скоро станут королями, а другая половина – герцоги, которые скоро станут нищими. Услышав мое имя, Дюрок сразу проводил меня в кабинет, и я предстал перед императором.
Разумеется, в походах я видел его сотню раз, а вот лицом к лицу – впервые. Уверен, повстречайся вы с ним, не зная, кто он такой, вы только и сказали бы, что это низенький человек с лицом землистого цвета, высоким лбом и точеными икрами. Да, ноги его превосходно выглядели в кюлотах из белого кашемира и белых же чулках. Но даже того, кто незнаком с императором, поразил бы необыкновенный взгляд – в его глазах временами появлялось такое выражение, увидев которое струхнул бы даже гренадер. Говорят, когда Наполеон был всего лишь простым солдатом, сам бесстрашный Ожеро дрожал под его пристальным взором. Однако на меня император посмотрел милостиво и жестом приказал остаться у дверей. Он диктовал что-то де Меневалю, который в паузах после каждой фразы вскидывал на него грустные, как у спаниеля, глаза.

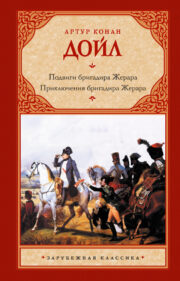



Эта книга Артура Конан Дойла «Подвиги бригадира Жерара. Приключения бригадира Жерара» представляет собой захватывающее путешествие в мир приключений и действий. Это история о доблестном бригадире Жераре, который противостоит врагам и преодолевает препятствия на своем пути. Он проявляет мужество и отвагу, принимая важные решения и делая правильные выборы. Эта книга помогает мне понять, что даже в самых трудных моментах жизни можно найти выход и преодолеть любые препятствия. Она вдохновляет меня на доброе дело и помогает мне видеть в жизни положительные стороны.