Всё, но… Внимание: в небе — ракета!
Крепость, Макдугалл, возьмём до рассвета.
Смело, йоркширцы, в атаку — за мной!
— …Ты, отругав меня, Эми, отчасти
Будешь права. Но, учти, что в несчастье
Ум помутили мне чёрные страсти.
Мне ли, безумному, грех не скостить?
Да и, к тому же, его беспредельно,
Стало мне жаль, когда ранен смертельно
Был он в сраженье,
В это мгновенье Всё я сумел и понять, и простить!
Умер он. Молвил я: «Мир вам, страдальцы!»
Взял медальон я, разжав его пальцы,
Тот, что он в вальсе…
(«Господи, сжалься! —
Думала Эми, — милость яви
Другу, который красив был на диво,
Другу, в котором всё было правдиво,
Другу, который солгал, умирая,
Другу, что лгал у могильного края,
Ради меня, — ради нашей любви!»).[3]
Песня о британских границах
Чем отмечены контуры наших границ?
Чем приметны, индиец, у нас рубежи?
Гималаями, чудом подлунного мира?
Или, может, горами-долами Кашмира?
Или Идом, что плавно течет перед нами
От Аттоха до устья с пятью рукавами?
«Нет, не тем!»
Ну тогда ты скажи-подскажи,
Чем отмечены контуры наших границ?
Чем отмечены контуры наших границ?
Чем, бирманец, границы приметны у нас?
Может, вехой, что где-то вблизи Мандалея?
Может, след — у Като? Может, сил не жалея,
Мы от Бамо на юг двинем прямо к Кьянг-маю,
Где рубины в земле, это точно я знаю?
«Все не то!»
Ну так чем же, ответь мне сейчас,
Обозначены контуры наших границ?
Чем отмечены контуры наших границ?
Африканер, ты ясность не сможешь ли внесть?
Поселеньем туземным — зулусским краалем?
Дракенсбергом? Извилистым бурным Ваалем?
Или Шире, — рекой мозамбикского края,
Что спешит, в океанские воды впалая?
«Все не то!
Понадежнее способы есть
Обозначить пределы британских границ!»
Чем отмечены контуры наших границ?
Египтянин, ты дашь ли ответ? И какой?
Их следы не в песках ли Луксора однако,
Где стоят расписные колонны Кранака?
И не там ли, где речка течет по стремнинам
Меж страной Эфиопией и Бишарином?
«Нет, не там!»
Не ручьем, не ключом, не рекой
Мы отметили контуры наших границ.
На восток ли, на запад, — куда ни взгляни,
Всюду видишь единый и памятный знак.
Изменяются небо, земля, языки,
Но саксонские волны, всему вопреки,
Охраняют могилы в далеком краю,
Где британские братья погибли в бою.
Что ни шаг,
То могилы солдатские, — так
Обозначены контуры наших границ![4]
Шахта Пеннарби-Майн
Пеннарби-Майн — и крута, и темна.
Восемь футов — её ширина.
Вглубь — восемьсот (Под ногами нетвердо:
Включён подъемник Уинчмена Форда).
«Вниз не смотри
И возьми себя в руки!» —
Первооснова шахтерской науки
В Пеннарби-Майн.
Раз незнакомца сюда занесло.
Вот где от меха народ затрясло!
Модный костюм, котелок да ботинки, —
Весь из себя как с журнальной картинки.
Встал на носки
И спустился, лощеный,
Словно бульвар ему был здесь мощеный
В Пеннарби-Майн.
— Прибыл из Лондона. Золото? Да?
Что вы копаете? Ах, господа!
Дайте лопату! Зуд меня гложет:
Что-то и я накопаю, быть может!
Ну и жара!
Неужели всё время
Спину вам гнет, словно тяжкое бремя,
Пеннарби-Майн?
Так повстречались не люди — миры:
Тяжкой работы и легкой игры.
Видя. как пот прошибал джентльмена,
Громко смеялась шахтерская смена.
— Браво, дружище!
— Замёрзнешь — согреем! —
Эхом гуляло по галереям
Пеннарби-Майн.
Карнбрей Боб, пеннарбийский мудрец,
Гостю сказал: — Здесь, увы, не дворец!
Ежели запах учуяли серный,
Значит, вы знак получаете верный
Глубже копнуть, —
Навсегда здесь остаться.
Стоило б каждому с этим считаться
В Пеннарби-Майн!
Олово! — вдруг перебил его гость.
В жилу хотел бы ткнуть свою трость,
И потянулся, и в черную яму
Ухнул, да так, что не вспомнил и маму!
— Господи!
— Надо ж такому случиться! —
Как побледнели чумазые лица
В Пеннарби-Майн!
Нет! Уцепился за узкий карниз,
Ногти ломает, не падает вниз.
— Клети дождитесь! Эй, сэр, осторожно!
Эта веревка — совсем ненадежна!
Нет, все равно
Ухватился за стропы!
Тянем! — кричали вокруг рудокопы
Пеннарби-Майн.
— Дружненько! Разом! Ну вот, наконец…
Гость-то наш — дышит! Какой молодец!
Дышит, как бык, а не фат с Пикадилли.
Вот где геройство! Всех убедили,
Даром что франтом
Явились вначале.
Сэр, вашу руку! — шахтеры вскричали
В Пеннарби-Майн.[5]
Поле для игры в гольф
Дует бриз на пригорке.
Задвигаем конторки!
Выйдем в поле, где клюшки и лунки,
Где цветение дрока
Впечатляет глубоко,
Где играют спортивные струнки.
Голубые палаты,
Где любые кантаты
Исполняет пернатое племя,
Игровые площадки
Или царство брусчатки, —
Выбирайте же, — самое время!
О мячах и о метках,
О любителях метких
Мы расскажем врачам, — а военным
Об участках препятствий,
Чтоб среди неприятствий
Был конечный успех — непременным.
Зачарованный вешкой,
Здесь политик с усмешкой
Говорит о «возвышенной цели»,
Здесь не квёлые клушки,
Здесь весёлые клюшки,
Здесь душа, здесь — восторг на пределе!
Ах, нечасто мы всё же
Прикасаемся к коже,
То бишь, к ручке, к её рукоятке,
Но со сталью упругой,
Как с любимой подругой,
Мы, встречаясь, дрожим в лихорадке.
Где спортивные клики,
Одобрение клики —
Грех великий, а радость — ничтожна:
Ведь с удачным ударом
Дар, доставшийся даром,
Право слово, сравнить невозможно!
Приходите, актёры,
Школяры, прокуроры,
Если злая хандра одолела.
На лужайке спортивной
От болезни противной
Вы избавитесь, — милое дело!
Мы устали от странствий
В бесконечном пространстве,
А идти ещё — годы и годы
Обо всём позабудем,
Ныне счастливы будем,
Если завтра вернутся невзгоды![6]
.
УМИРАЮЩИЙ ПСАРЬ
Мне стало жарко, — собаки
заливались на все голоса, —
Себя не жалея, провёл в седле я
в тот день полтора часа.
«Джек, у меня чахотка, —
сказал я брату, — беда!»
И вот, не успел оглянуться,
как меня привезли сюда.
Ночью вспотел я, — слабость
меня охватила потом.
А нынче горло схватило, спёрло,
каждое слово — с трудом.
Замучил тяжёлый кашель,
не вижу, где тьма, где свет,
Беда! Не успел оглянуться,
и вот я — живой скелет.
И раньше-то весил мало,
а нынче — живой скелет,
И раньше-то весил мало,
а нынче — сошёл на нет.
И раньше-то весил мало,
а нынче, скажу без затей,
Вешу я ровно столько,
сколько самый худющий жокей.
Доктор твердит: причина,
что я тощего стал тощей,
В хворобных каких-то тварях,
что вроде сырных клещей.
Зовут их… Кажись, «мукробы»,
точно не помню я,
Но «муки» они мне «робят»
и не дают житья.
Всё, моя песня спета,
знаю, дела мои — швах.
Люди молчат, но это
прочёл я в людских глазах.
Херст за конюшней присмотрит,
за псарней — мой Джек дорогой,
Хотя присмотреть за сворой
я могу, как никто другой.
Всяк подтвердит, кто знает,
что я говорю не зря:
Нынче во всём Суррее
лучшего нет псаря.
Каждого пса щеночком
помню. Лежу пластом,
Но если увижу, что машет хвост,
я скажу, кто машет хвостом.
Чую природу, слышу
голос её живой!
Чую природу, знаю

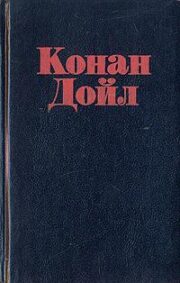

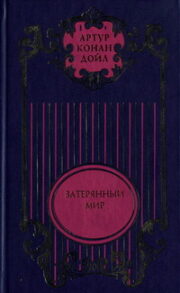


"Песни действия" отзывы
Отзывы читателей о книге "Песни действия", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Песни действия" друзьям в соцсетях.