Мистер Паркер Пайн сидел в кабинете своего знакомого — видного каирского чиновника.
— Вот такие улики, — задумчиво проговорил он.
— Ничего себе! Этот парень что, круглый идиот?
— Ну, мыслителем сэра Джорджа я бы, конечно, не назвал, но все же…
— Да ладно тебе. Все одно к одному. Леди Грейл просит чашку «Боврила»[198]. Сиделка его готовит. Леди Грейл просит добавить туда херес. Сэр Джордж достает ей херес, и двумя часами позже она умирает с отчетливой симптоматикой отравления стрихнином. Один пакетик стрихнина мы находим в каюте сэра Джорджа, еще один — в кармане его пиджака.
— Замечательная получается картина, — заметил мистер Паркер Пайн. — Откуда, кстати, взялся стрихнин?
— Тут некоторая неясность. Небольшой запас был у сиделки — на случай, если у леди Грейл прихватило бы сердце, но она сама себе противоречит. Сначала заявила, что все на месте, потом, что, может, его и впрямь стало меньше…
— Странно все эта, — заметил мистер Паркер Пайн.
— Если хочешь знать мое мнение, они действовали на пару. Скажем, питают друг к другу слабость.
— Возможно, но если бы она в этом участвовала, они бы действовали куда профессиональней, в конце концов, она медик.
— Да, действительно… Если хочешь знать мое мнение, сэр Джордж действовал один, и теперь ему конец.
— Ну, ну, — возразил мистер Паркер Пайн. — Посмотрим, что здесь можно сделать.
Для начала он разыскал Памелу. Та побелела от возмущения.
— Дядя никогда бы такого не сделал — никогда — никогда — никогда!
— А кто бы сделал? — миролюбиво поинтересовался мистер Паркер Пайн.
Памела доверительно к нему придвинулась.
— Знаете, что я думаю? Она сделала это сама. Последнее время она была ужасно странная. Городила разные глупости…
— Какие, например?
— Ну, совершенная дикость. Намекала, что между ней и Бэзилом что-то есть. А Бэзил и я, мы…
— Я заметил, — улыбнулся мистер Паркер Пайн.
— Самый настоящий бред. Я думаю, она была очень зла на беднягу — я про дядюшку — и выдумала эту историю специально для вас, а потом подложила стрихнин ему в пиджак и в каюту и отравилась. Ведь бывали же такие случаи, правда?
— Бывали, — согласился мистер Паркер Пайн, — но не думаю, что леди Грейл могла поступить подобным образом. Это, если позволите, не в ее стиле.
— Но ее больное воображение?
— А вот об этом я еще побеседую с мистером Уэстом.
Молодой человек оказался в своей комнате и с готовностью все объяснил.
— Видите ли, я прекрасно понимаю, как дико это звучит, но леди Грейл попросту в меня влюбилась. Вот почему я и не решался рассказать ей о нас с Памелой. Она тут же заставила бы сэра Джорджа меня уволить.
— Ее собственное объяснение кажется вам правдоподобным?
— Ну, в общем, да, — неуверенно ответил молодой человек.
— Но все же не слишком, — спокойно возразил мистер Паркер Пайн. — Нет, придется найти более убедительное. — И, немного помолчав, добавил: — Думаю, добровольное признание будет для вас лучше всего.
Он снял колпачок со своей перьевой ручки, вытащил из кармана чистый лист бумаги и протянул молодому человеку.
— Просто напишите, как все было.
Бэзил Уэст вытаращил на него глаза.
— Я? Какого черта! Что вы хотите этим сказать?
— Милый юноша, — проговорил мистер Пайн чуть ли не отеческим тоном, — я ведь и так все знаю. И как вы вскружили голову богатой леди, и как она мучилась угрызениями совести, и как вы влюбились в ее хорошенькую, но бедную племянницу. И как решили избавиться от леди Грейл — подсыпав ей в пищу стрихнин. Ее смерть наверняка списали бы на гастроэнтерит[199]. Или на сэра Джорджа, поскольку вы позаботились о том, чтобы приступы совпадали с его присутствием дома.
Неожиданно вы обнаружили, что леди что-то подозревает и даже поделилась со мной своими сомнениями. Вы на ходу меняете план. Выкрадываете стрихнин из аптечки мисс Макноутон. Кладете пакетик в карман сэру Джорджу, другой подбрасываете в его каюту, а остальное отсылаете обреченной леди, обещая, что этот порошок отправит ее в «страну грез».
Довольно циничная шутка. Но леди Грейл это представляется очень романтичным. Разумеется, она принимает порошок только после того, как уходит ее сиделка, так что никто ничего не узнает. Но это по-вашему. Милый юноша, вы совершили чудовищную ошибку, поверив, что леди Грейл сожжет ваше любовное послание. Она ни за что бы этого не сделала! И, в результате, мне достается увесистая подборка ваших посланий, в том числе и последнее, где вы предлагаете ей прогулку в «страну грез».
Лицо Бэзила Уэста стало бледно-зеленым. Вся его привлекательность в момент исчезла. Теперь он выглядел в точности как затравленный кролик.
— Проклятье! — ощерился он. — Все-то тебе известно, проклятая ищейка!
Он угрожающе двинулся вперед. От физического насилия мистера Паркера Пайна спасло только появление предусмотрительно размещенных им за дверьми и слышавших все до последнего слова свидетелей.
Мистер Паркер Пайн обсуждал закрытое уже дело со своим высокопоставленным каирским приятелем.
— И все это даже без намека на настоящую улику! Только бессмысленный обрывок с требованием его сжечь! Я практически выдумал всю эту историю и с ходу выложил ее ему. И сработало ведь! Я буквально наткнулся на истину. Письма его добили. Леди Грейл сожгла каждый написанный им клочок, но он-то об этом не знал!
Она была необыкновенной женщиной. Наш разговор тогда поставил меня в тупик. Она хотела, чтобы именно муж подсыпал ей отраву в еду. Тогда она могла бы с чистой совестью уйти к этому Уэсту. Но только тогда. Она хотела играть честно. Удивительная женщина.
— Ее племяннице выпало страшное испытание, — заметил чиновник.
— Справится, — жестко сказал мистер Паркер Пайн. — Она молода. Меня больше волнует сэр Джордж. Надеюсь, жизнь ему улыбнется. Последние десять лет его всячески третировали. Хотя, думаю, Элси Макноутон о нем позаботится.
Неожиданно его сияющее лицо омрачилось. Он тяжело вздохнул.
— Кажется, в Грецию я поеду инкогнито. Должен же я наконец отдохнуть!
Дельфийский оракул[200]
Греция мало интересовала миссис Уиллард Д. Петерс, а о Дельфах, сказать по правде, она и вовсе не слыхала.
Духовной вотчиной миссис Петерс были Париж, Лондон и Ривьера. Ей нравилось останавливаться в гостиницах, но только в таких, где есть пушистые ковры, роскошная кровать, изобилие несущих свет электрических приспособлений — вплоть до торшера с регулируемой яркостью, вдоволь горячей и холодной воды и телефон под рукой, по которому всегда можно заказать чай, закуски, минеральную воду, коктейли или же просто поболтать с подругой.
В дельфийской гостинице ничего этого не было. Там был только изумительный вид из окна, чистая постель, не менее чистые стены, комод, стул и умывальник. В душ можно было попасть исключительно по записи, что, впрочем, не гарантировало наличия горячей воды.
Миссис Петерс представлялось, как все будут поражены, узнав, что она посетила Дельфы, и, в предвидении расспросов, изо всех сил старалась вызвать у себя интерес к Древней Греции. Интерес не приходил. Скульптуры все были какие-то недоделанные, — если у статуи наличествовала голова, можно было быть уверенной, что у нее не окажется руки или ноги. Пухлый мраморный ангелок с крылышками, украшавший надгробие мужа, был ей куда симпатичнее.
Однако она не призналась бы в этом ни за что на свете — хотя бы уже из боязни оскорбить художественный вкус своего сына Уилларда. Собственно, ради него она и принимала все эти муки: холодную неудобную комнату, угрюмую прислугу и шофера, чей омерзительный затылок вынуждена была созерцать ежедневно. Ибо восемнадцатилетний Уиллард (до недавнего времени вынужденный носить ненавистную ему приставку «младший») был единственным сыном миссис Петерс, которого она боготворила. Именно его, Уилларда, обуяла страсть к античному искусству, и именно он, тощий, бледный и очкастый Уиллард потащился в его поисках через всю Грецию.
Они побывали в Олимпии[201], где миссис Петерс не могла побороть чувства, что неплохо бы там немного прибраться; видели Парфенон[202], показавшийся ей довольно сносным, осмотрели — совершенно, по ее мнению, ужасные — Афины[203]. Коринф[204] и Микены[205] оказались сущим мучением уже не только для нее, но и для шофера.
Миссис Петерс решила, что Дельфы — последняя капля. В них абсолютно нечего было делать, кроме как бродить между развалинами. А Уиллард даже не бродил — он ползал! Часами ползал на коленях, изучая какие-то древнегреческие надписи и периодически восклицая: «Мамочка, ты только послушай!», после чего зачитывал такое, скучнее чего миссис Петерс сроду не слыхивала.
Тем утром Уиллард с утра пораньше отправился рассматривать какую-то византийскую мозаику[206]. Прислушавшись к себе, миссис Петерс вынуждена была признаться, что византийская мозаика, образно — как, впрочем, и фактически — говоря, ее не греет. Она отказалась от прогулки.
— Понимаю, мама, — согласился Уиллард. — Ты хочешь пойти куда-нибудь, где никого нет, и просто посидеть, впитывая мощь и величие этих развалин.
— Точно, цыпленок, — сказала миссис Петерс.
— Я знал, что это место тебя проймет, — взволнованно сказал Уиллард, выходя из номера.
Миссис Петерс глубоко вздохнула, вылезла из кровати и отправилась завтракать.
В столовой никого не было. Только четыре человека. Мать с дочерью, обе одетые во что-то несуразное (миссис Петерс знать не знала, что такое пеплум[207]) и оживленно толкующие об искусстве самовыражения в танце; потом полный пожилой господин по имени Томпсон, спасший чемодан, забытый ею в купе, и еще лысый джентльмен средних лет, прибывший вчера вечером.




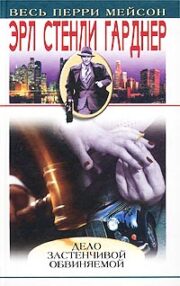
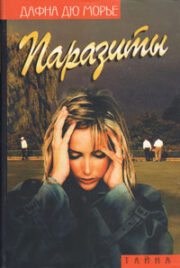
"Пес смерти. Мисс Марпл рассказывает. Расследует Паркер Пайн. Второй гонг" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пес смерти. Мисс Марпл рассказывает. Расследует Паркер Пайн. Второй гонг", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пес смерти. Мисс Марпл рассказывает. Расследует Паркер Пайн. Второй гонг" друзьям в соцсетях.