– Ты говоришь, что я тактичная женщина и умею слушать, но ведь я никогда не блистала умом.
– Ну ладно, я хотел бы узнать немного побольше о том, что говорил Робби о проекте Б.
– Он сказал… Знаешь, я затрудняюсь припомнить. Он упомянул о нем после одной из операций, которые они проводили на человеческом мозге. Речь шла о больных с подавленной психикой, пребывавших постоянно в депрессивном состоянии и предрасположенных к самоубийству. Такие вещи обычно обсуждались в связи с Фрейдом. И он сказал, что побочные эффекты этой операции были ужасны. То есть пациенты ощущали себя счастливыми, были покладистыми и общительными, не испытывали беспокойства и не помышляли о самоубийстве, но они… но они становились чрезмерно спокойными, совершенно не думали о возможной опасности, попросту не замечали ее, поэтому попадали под машину, с ними случались другие неприятности в таком же роде. Я выражаюсь сумбурно, но ты ведь понимаешь, что я имею в виду? Во всяком случае, он сказал, что, ему кажется, с проектом Б будут проблемы.
– А поподробнее он не объяснил?
– Он сказал, что я заронила ему в голову эту мысль, – неожиданно добавила леди Матильда.
– Что? Ты хочешь сказать, что такой крупный ученый, как Робби, действительно сказал тебе, что ты заронила какую-то мысль в его ученую голову? Ты же и представления не имеешь о науке!
– Конечно, не имею. Но я обычно пытаюсь придать рассуждениям людей немного здравого смысла. Чем они умнее, тем меньше у них здравого смысла. Правда, я не имею в виду тех, кто придумал такие простые штуки типа перфорации на почтовых марках, или этого Адама, или как там его звали, да, Макадама в Америке, который покрыл дороги чем-то черным, чтобы фермеры могли вывезти свой урожай на побережье и заработать побольше денег. От таких людей гораздо больше пользы, чем от всех великих ученых. Ученые способны придумывать только то, что может погубить человечество. Вот что-то в этом роде я и сказала Робби. Конечно, очень деликатно, вроде бы в шутку. Он как раз рассказывал мне про какие-то чудесные изобретения для бактериологической войны, про биологические эксперименты и про то, что можно сделать из нерожденных младенцев, если вовремя их получить. А еще он говорил о каких-то необычайно мерзких газах и что, мол, люди поступают глупо, протестуя против ядерных бомб, потому что эти бомбы – просто милые игрушки по сравнению с некоторыми другими штуками, которые были изобретены позже. Так вот, я сказала, что было бы гораздо полезнее, если бы Робби или кто-нибудь другой, такой же умный, как Робби, придумал что-нибудь действительно разумное. И он поглядел на меня с таким, знаешь, огоньком в глазах, который у него иногда появляется, и сказал: «А что бы ты сочла разумным?» – а я ответила: «Ну, вместо того чтобы изобретать все эти бактериологические штуки, и эти противные газы, и все прочее, почему бы тебе не придумать что-нибудь такое, что сделало бы людей счастливыми?» Я сказала, что вряд ли это окажется для него труднее. Я сказала: «Ты говорил о той операции, когда то ли из передней, то ли из задней части мозга вынимают кусочек и это очень меняет характер человека. Он становится совсем другим, он больше не тревожится и не стремится к самоубийству. Но если человека можно так изменить, просто взяв у него кусочек кости, мышцы или нерва или вынув у него железу и пришив ему еще одну, то почему бы не изобрести что-нибудь такое, чтобы сделать человека милым или хотя бы сонным? Например, не с помощью снотворного, а каким-то другим путем ты побуждаешь человека сесть в кресло и погрузиться в приятный сон. Спит он целые сутки и лишь время от времени просыпается, чтобы поесть». Я сказала, что эта идея была бы гораздо плодотворнее.
– Это и был проект Б?
– Нет, конечно, он мне так и не объяснил в точности, что это такое, но его заинтересовало мое высказывание, поэтому он и считает, что именно я заронила идею ему в голову. Так что, по-видимому, работу над этим проектом он считал довольно приятной. Ведь я не предлагала ему изобретать какие-то жуткие способы уничтожения людей, я не хотела даже, чтобы люди плакали, скажем, от слезоточивых газов и так далее. Смеяться – да, по-моему, я упомянула веселящий газ. Я сказала: «Представь: тебе предстоит удалить зуб, ты три раза вдохнешь этого газа – и все в порядке». Конечно же, можно придумать что-нибудь столь же полезное, но чтобы действовало подольше. Ведь, по-моему, этот газ действует всего секунд пятьдесят, верно? У моего брата однажды удаляли несколько зубов. Зубоврачебное кресло стояло совсем рядом с окном, и мой брат, находясь без сознания, так смеялся, что лягнул правой ногой и угодил прямо в окно. Стекло вывалилось на улицу, а дантист очень сердился.
– В твоих историях всегда фигурируют какие-то странные родственники, – заметил адмирал. – Так, значит, именно этим Робби Шорхэм и решил заняться по твоему совету.
– Ну, я точно не знаю, чем именно он решил заняться. Я не думаю, что речь шла о сне или смехе. Но что-то такое было. На самом деле это называлось не проект Б, а как-то по-другому.
– Как?
– По-моему, он раз или два упомянул это название. Что-то вроде «Бенджер», как на консервах, – сосредоточившись, произнесла леди Матильда.
– Какое-то средство для облегчения пищеварения?
– Не думаю, что это было как-то связано с пищеварением. Скорее это было что-то такое, что можно нюхать или что-нибудь в этом роде. А может, это железа. Знаешь, мы беседовали о таком множестве вещей, что трудно было разобраться, о чем он говорит в данную минуту. Бенджер… Бен… Бен… Это начиналось с «Бен». И это как-то ассоциировалось с каким-то приятным словом.
– Это все, что ты можешь вспомнить?
– Думаю, да. Понимаешь, это был единственный разговор, а позже, спустя много времени, он сказал мне, что я подала ему какую-то идею для проекта Б… не помню, как дальше. Потом иногда я спрашивала его, работает ли он все еще над проектом Б, и он порой очень раздражался, говорил, что столкнулся с каким-то препятствием и теперь все пришлось отложить, потому что… А следующие восемь слов он говорил на своем жаргоне, и я их не могу вспомнить, а даже если бы и вспомнила, ты все равно ничего бы не понял. Но в конце концов, о боже, прошло уже лет восемь или девять, в конце концов он как-то пришел и спросил: «Ты помнишь проект Б?» – и я ответила: «Конечно, помню. Ты все еще над ним работаешь?» И он сказал, что нет, он решил его отложить. Я сказала, мне жаль, что он от него отказался, а он: «Ну, дело не только в том, что я не могу получить то, к чему стремился. Теперь я знаю, что мог бы достичь желаемых результатов. Знаю, в чем была загвоздка, и знаю, как ее устранить. Со мной вместе работает Лиза. Да, это может получиться. Мне понадобятся кое-какие эксперименты, но это может получиться». – «Хорошо, – сказала я, – и что же тебя беспокоит?» А он ответил: «Неизвестно, как эта штука в конечном счете скажется на людях». Я предположила: может быть, он боится, что эта штука будет убивать людей или делать их калеками на всю жизнь, но он сказал, что это совсем не так. Он сказал – о, точно, я вспомнила! Он называл это проект «Бенво». Точно. И это потому, что он был связан с благожелательностью.
– Благожелательность! – очень удивился адмирал. – Ты хочешь сказать «благотворительность»?
– Нет, нет. Я думаю, что он просто имел в виду, что можно сделать людей благожелательными. Заставить чувствовать благожелательность.
– Мир и доброжелательность по отношению к другим людям?
– Ну, так он не говорил.
– Еще бы, такие слова больше подходят религиозным проповедникам. Если бы люди поступали именно так, как сказано в их проповедях, мир был бы очень счастливым. Но, насколько я понимаю, Робби не проповедовал, а предлагал сделать что-то в своей лаборатории, чтобы добиться этого результата чисто физическими методами.
– Да, вроде бы так. И еще он говорил, что никогда нельзя сказать, когда какое-то средство действует на людей благотворно, а когда нет. Иногда бывает так, а иногда иначе. А еще он говорил о пенициллине, и сульфамидах, и пересадках сердца, и о чем-то вроде дамских пилюль, хотя тогда таких вроде бы не было. О том, что поначалу кажется хорошим, – какое-нибудь чудо-лекарство, чудо-газ или чудо-что-то, – а потом выясняется, что в них есть что-то такое, что делает их не только полезными, но даже вредными, и тогда хочется, чтобы их вовсе не было. Да, что-то в этом роде он мне и пытался объяснить. Это все было довольно непонятно. Я ему сказала: «То есть ты не хочешь рисковать?» – а он ответил: «Ты совершенно права, я не хочу рисковать. В этом-то и беда, потому что, видишь ли, я понятия не имею, в чем именно будет состоять риск. С нами, учеными, такое бывает: мы рискуем, а риск оказывается не в том, что мы изобрели, а в том, что потом сделают с нашим изобретением те люди, в руки которых оно попадет». Я говорю: «Ты опять про ядерное оружие и атомные бомбы?» – а он отвечает: «Да к черту ядерное оружие и атомные бомбы, дело зашло гораздо дальше».
Леди Матильда помолчала немного и продолжила свой рассказ:
– «Но если ты собираешься сделать людей добрыми и благожелательными, – говорю я, – о чем тогда волноваться?» А он говорит: «Матильда, ты не понимаешь и никогда не поймешь. Мои коллеги-ученые, по всей вероятности, тоже не поймут, и никакие политики не поймут никогда. Так что, видишь ли, риск слишком велик. Во всяком случае, чтобы все осмыслить, требуется много времени». – «Но, – говорю я, – ведь людей можно потом привести в чувство, как после веселящего газа, не так ли? То есть можно сделать людей благожелательными на какое-то короткое время, а потом с ними будет опять все в порядке – или опять не в порядке: я бы сказала, в зависимости от того, как на это посмотреть». А он ответил: «Нет, видишь ли, это средство действует постоянно, потому что оно влияет на что-то такое…» Он опять перешел на жаргон – какие-то длинные слова и цифры. Формулы или молекулярные сдвиги, что-то в этом роде. Я полагаю, это похоже на то, что они делают с кретинами, чтобы они перестали быть кретинами: то ли пересаживают им щитовидку, то ли удаляют, я точно не помню. Ну вот, по-моему, где-то в нас есть какая-то железка, и если ее удалить или прижечь, тогда человек будет постоянно…

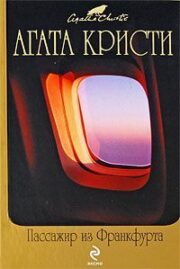

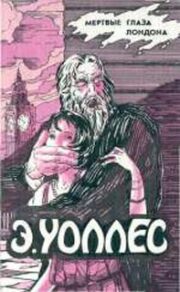
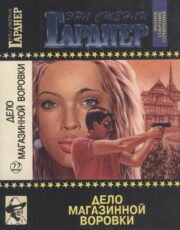
"Пассажир из Франкфурта" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пассажир из Франкфурта", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пассажир из Франкфурта" друзьям в соцсетях.