Виктор записался в армию одним из первых. Может быть, он думал, что наконец нашел выход. И может быть, надеялся, что его убьют. Я смог последовать его примеру, только когда истек срок моего контракта в Америке. Для меня это не было выходом, и я считал минуты до конца ненавистной службы в армии. Всю войну я не видел Виктора. Мы сражались на разных фронтах и не встречались даже во время отпусков. Однажды я все же получил от него весточку. Он писал:
Наперекор всему я сумел сделать так, чтобы каждый год попадать на Монте Верита, как и обещал. Я ночую у старика в деревне и на следующий день поднимаюсь на вершину горы. Она не изменилась — по-прежнему мертвая и безмолвная. Я оставлял каждый раз письмо под стеной и сидел там весь день, глядя на монастырь, и чувствовал, что она рядом. Я знал, что она не выйдет ко мне. На следующий день я приходил снова и, к моей радости, находил ответное письмо. Едва ли это можно назвать письмом. Оно обычно выбито на плоском камне, и мне кажется, что это их единственный способ коммуникации. Она писала, что здорова, полна сил и очень счастлива. Она передала мне свое благословение, и тебе тоже. Она просила никогда о ней не беспокоиться. И это все. Помнишь, как я тебе говорил в лечебнице, что это будто весть от духа умершего. Я должен этим довольствоваться, что я и делаю. Если уцелею на войне, то скорее всего уеду из Англии, поселюсь где-нибудь в той стране, где она, чтобы быть поближе к ней, даже если я никогда ее больше не увижу и ничего о ней не услышу, кроме нескольких слов раз в год, процарапанных на камне.
Всего доброго тебе, дружище. Хорошо бы знать, где ты.
Как только было заключено перемирие, я сразу же демобилизовался и попытался вернуться к нормальной жизни. Первым делом я навел справки о Викторе. Я написал ему в Шропшир и в ответ получил любезное письмо от его племянника. Он вступил во владение домом и имением. Виктор был ранен, но не опасно. В данный момент он уехал из Англии и находился где-то за границей, то ли в Италии, то ли в Испании, где точно — племянник не знал. Он полагал, что дядя надумал там остаться навсегда. Если ему станет что-нибудь известно, он мне непременно сообщит. Больше я не получил никаких вестей. Решив, что мне разонравился послевоенный Лондон и его обитатели, я тоже разорвал узы, привязывавшие меня к дому, и уехал в Америку.
Виктора я не видел почти двадцать лет.
Я твердо верю, что не простая случайность снова свела меня с Виктором. Такие вещи предопределены. У меня есть теория, что жизнь каждого отдельного человека подобна карточной колоде, и те, кого мы встречаем на пути, а иногда и привязываемся к ним душой, перетасованы вместе с нами. Мы оказываемся в руке Судьбы, держащей карты одной масти. Нас сбрасывают из колоды, и игра продолжается.
Стечение обстоятельств, которое снова привело меня в Европу в возрасте пятидесяти пяти лет, за два или три года до Второй мировой войны, не имеет никакого отношения к данной истории. Все так сложилось, и я попал в Европу.
Я летел из одной столицы в другую — названия их не имеют значения, — когда наш самолет вынужден был совершить посадку в глухой горной местности. К счастью, обошлось без жертв. Двое суток экипаж и пассажиры, среди них и я, прожили без всякой связи с внешним миром. Мы устроили бивуак в частично поврежденной машине и ждали помощи. Известие о нашем приключении потом обошло мировую печать и появилось всюду в заголовках газет, потеснив даже на несколько дней сообщения о бурлящей событиями Европе.
Трудности, которые мы пережили в первые сорок восемь часов, оказались не такими уж непереносимыми. Нам повезло, среди пассажиров не было ни женщин, ни детей, а мы, как и подобает мужчинам, держались стойко и ждали спасателей. Никто не сомневался, что помощь вот-вот придет. Рация продолжала действовать до момента посадки, и радист успел сообщить наши координаты. Оставалось набраться терпения и не замерзнуть.
В Европе дела свои я закончил, а нити, связывающие меня со Штатами, были не настолько крепки, чтобы я мог думать, что там ждут с нетерпением. Поэтому неожиданное погружение в мир, похожий на тот, который когда-то я так страстно любил, явилось для меня неким странным испытанием. За эти годы я сделался сугубо городским человеком, рабом комфорта. Лихорадочный пульс американской жизни, ее сумасшедший темп, витальность, не переводящая дух энергия Нового Света сговорились, чтобы заставить забыть все, что привязывало меня к Старому.
Теперь, глядя на пустынное великолепие вокруг, я понимал, чего мне не хватало все эти годы. Я забыл о своих попутчиках, забыл о сером фюзеляже покалеченного самолета, казавшегося анахронизмом в этом древнем заброшенном краю, забыл о своей седой голове, о давно утратившем легкость теле и тяжком грузе своих пятидесяти пяти годов. Я снова был мальчиком, полным надежд, горячим, нетерпеливым, ищущим ответа у вечности. Это он был здесь, ждал за теми пиками впереди. А теперь стою здесь я, нелепый в своей городской одежде, а горная лихорадка уже клокочет у меня в крови.
Мне вдруг захотелось уйти от разбитого самолета, от унылых лиц моих спутников, захотелось забыть годы, растраченные впустую. Я бы все отдал, чтобы снова стать молодым, бесшабашным и, не заботясь о том, что может случиться, отправиться навстречу горным пикам и подняться к вершинам славы. Я знаю, что ощущает человек высоко в горах: воздух там резче и холоднее, а тишина глубже. И этот странный обжигающий лед. И всепроникающее солнце. А как замирает сердце, когда вдруг нога соскользнет с узкого уступа и ищет опоры, а руки до боли цепляются за веревку.
Я глядел на них, на горы, которые так любил, и чувствовал себя предателем. Я предал их ради низменных благ — комфорта, покоя, безопасности. Но теперь, когда прибудут спасатели, я постараюсь наверстать упущенное время. Я отложу возвращение в Штаты — никакой особой спешки нет. Я могу устроить себе каникулы здесь, в Европе, и снова пойти в горы. Куплю необходимую одежду, всю экипировку, этим я сейчас займусь. Приняв решение, я почувствовал, как стало легко на душе, словно тяжкий груз свалился с плеч. Все остальное уже не имело значения. Я вернулся к нашей маленькой колонии, расположившейся возле самолета, и оставшиеся часы весело шутил и смеялся.
Помощь пришла на второй день. Завидев на рассвете кружащий над нами самолет, мы поняли, что наши мытарства позади. В отряде спасателей были опытнейшие альпинисты и проводники, парни грубоватые, но вполне дружелюбные. Они привезли с собой теплую одежду, рюкзаки, провиант, и были удивлены, что все пригодилось и всем этим мы в состоянии пользоваться. По их признанию, они не надеялись застать кого-либо в живых.
Они сильно облегчили нам спуск, помогая на горных тропах и заставляя нас останавливаться и отдыхать. Ночь мы провели, разбив лагерь на северной стороне огромного кряжа, который казался еще совсем недавно, с места падения нашего теперь уже бесполезного самолета, таким недосягаемо далеким. Чуть рассвело, мы снова тронулись в путь — день был великолепный, и вся долина внизу под нашим лагерем лежала как на ладони. К востоку горная гряда делалась все отвеснее и, как я понимал, была непроходимой вплоть до увенчанного снежной шапкой пика или даже двух, пронзающих ослепительное небо, словно торчащие костяшки стиснутых в кулак пальцев.
— Прежде, в молодости, я много ходил в горы, но здешних гор я совсем не знаю. Часто тут бывают туристские группы? — спросил я начальника спасателей, когда мы только стали спускаться.
В ответ он покачал головой и сказал, что условия здесь трудные. Все его люди не из этих мест. Народ в долине у подножия восточного хребта темный и невежественный, для туристов и приезжих удобств нет никаких. Если я надумал пойти в горы, они отвезут меня в другие места, где я могу полазать в свое удовольствие. Хотя для горных походов время уже позднее.
Я все смотрел на восточную гряду, далекую и такую красивую какой-то особенной, своеобразной красотой.
— Как называются эти пики-двойняшки на востоке? — спросил я.
— Монте Верита.
Теперь я знал, что привело меня назад в Европу…
Я простился со своими спутниками в маленьком городке примерно в двадцати милях от места, где потерпел аварию наш самолет. Наземный транспорт должен был доставить их до ближайшей железной дороги, обратно в цивилизацию. Расставшись с ними, я заказал номер в небольшом отеле и перенес туда вещи. Затем я купил себе крепкие туристские ботинки, бриджи, куртку, пару рубашек и, оставив позади городок, двинулся вверх в горы.
Как сказал мне проводник, сезон туристских походов прошел. Но меня почему-то это ничуть не тревожило. Я был снова один и в горах. Я забыл, каким целительным может быть одиночество. Ноги и легкие вновь обрели силу, холодный воздух проник во все поры моего существа. В свои пятьдесят пять лет я готов был кричать от переполнявшей меня радости. Ушли суета и треволнения, ушли бесконечные людские толпы, вечно несущиеся куда-то, ушли огни и неаппетитные запахи огромного города. Каким безумием было терпеть все это столько лет.
В таком возвышенном состоянии духа я прошел в долину, лежащую у восточного склона Монте Верита. Она мало изменилась, судя по тому, как ее описал мне Виктор в ту нашу давнюю предвоенную встречу. Городишко был маленький и почти первобытный, а люди скучные и хмурые. Я там нашел нечто вроде гостиницы, где, впрочем, был встречен довольно неприветливо.
После ужина я попытался узнать, открыта ли еще тропа, ведущая на Монте Верита. Мой собеседник, стоящий за стойкой бара, который служил одновременно и в кафе, где я, единственный посетитель, ужинал, поглядел на меня безучастным взглядом, отхлебывая из стакана вино, предложенное мною.
— Пройти можно, до деревни всяко, а там дальше — не знаю.
— Много ваших ходит в деревню? А оттуда люди здесь бывают?

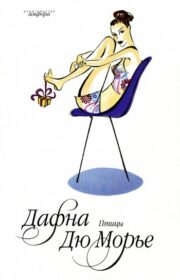


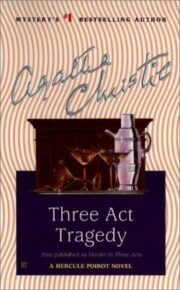
"Монте Верита" отзывы
Отзывы читателей о книге "Монте Верита", автор: Дафна дю Морье. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Монте Верита" друзьям в соцсетях.