— Вы сказали, когда все это кончится? — изумилась Хилари. — А почему это должно случиться?
— Надо иметь здравый смысл, — резонерски ответил доктор Баррон. — Все течет, все изменяется… Ничто не длится вечно. Я пришел к заключению, что во главе всей этой Организации стоит безумный. А сумасшедшие, с позволения сказать, могут быть логичными… Но в конце концов, — он передернул плечами, — все это меня вполне устраивает.
Что касается Торквила Эрикссона, то он чувствовал себя прекрасно. Хилари видела его очень редко и не жалела об этом, ее всегда пугал какой-то странный жестокий взгляд его почти прозрачных глаз. Хилари была убеждена, что Эрикссон относится к тем молодым людям, которые могут умертвить три четверти населения земного шара ради утопических идей воспаленного мозга.
Легче всего ей было найти общий язык с Энди Питерсом. По мнению Хилари, это происходило потому, что Энди был всего лишь талантливым ученым и далеко не гением. Питерс тяготился здешней атмосферой и, пожалуй, в такой же степени, как и Хилари, ненавидел ее.
— Честно говоря, я не знал, куда еду. Вернее, я думал, что знаю, но я ошибся. Партия, к которой я принадлежу, не имеет ничего общего с этим местом. И, конечно, Москва тут абсолютно ни при чем. Здесь какой-то фарс, скорее всего фашистского толка, — говорил он Хилари.
— Вам не кажется, — спросила Хилари, — что вы, так сказать, попались на лозунги?
— Может быть, вы и правы. Над этим следует поразмыслить. Мы часто бросаемся словами, не вдумываясь в их сущность. Одно я знаю совершенно точно: я хочу выбраться отсюда.
— Это будет нелегко, — Хилари понизила голос.
— Да! — Голос Питерса был полон решимости. — Это будет нелегко, но не существует ничего невозможного.
— Как я рада слышать это от вас! — проговорила Хилари. — Как я рада!
— Вам надоело здесь? — Энди посмотрел на нее с сочувствием.
— Очень. Но это еще не самое страшное. Я боюсь другого.
— Другого? Чего же, например?
— Боюсь привыкнуть ко всему этому.
— Я понимаю вас… Иногда мне кажется, что тут кое-что проделывают с людьми.
— Проделывают? Что вы имеете в виду?
— Говоря откровенно, я думаю, что здесь дело в каком-то наркотике. Может быть, его добавляют в еду или питье, а может, распыляют в воздухе. Им нужны послушные гении. Я предполагаю, что здешние организаторы и администраторы блестяще натасканы в гипнозе и психологии, и мы, сами того не замечая, постоянно подвергаемся воздействию с их стороны.
— Но мы не должны стать послушными! — горячо вскричала Хилари. — Мы ни на минуту не можем допустить мысль, что нам здесь хорошо.
— Как себя чувствует ваш муж? — спросил вдруг Энди.
— Томас? Я.., я не знаю. Это так все трудно. Я… — Хилари умолкла.
Как могла Хилари рассказать своему собеседнику о той странной жизни, которую она ведет уже несколько дней?
Кем она была в сущности? Шпионкой, обманщицей, продолжающей играть свою роль под личиной другого человека. Беттертона она никак не могла понять. Он казался ей ужасным примером того, во что может превратиться блестящий ученый, которому довелось попасть в удушающую атмосферу Организации. Не раз он повторял слова, произнесенные им во время их первого разговора:
— Я не могу думать. У меня такое ощущение, будто мои мозги высохли.
«Конечно, — думала Хилари, — Томас, настоящий гениальный ученый, нуждается в свободе больше, чем кто-либо другой. Никакое внушение не может возместить ему потерю свободы. Только в условиях полной свободы Беттертон сможет вернуться к продуктивной научной работе».
Что касается отношения самого Беттертона к Хилари, то он просто не обращал на нее внимания. Он не смотрел на нее ни как на женщину, ни как на друга. Хилари казалось, что он даже не очень страдал, получив известие о смерти Оливии. Томас был одержим одной мыслью. Он жаждал свободы.
— Я должен вырваться отсюда, — говорил он Хилари. — Должен. Но как? Как?
Могла ли Хилари рассказать обо всем этом Питерсу! Если бы только она могла сказать: «Том Беттертон вовсе не мой муж. Я ничего о нем не знаю. Не знаю, каким он был раньше, и что он из себя представляет сейчас. И помочь ему не могу ничем, ни словом, ни делом»! Но, к сожалению, Хилари должна была тщательно выбирать слова, поэтому она только сказала:
— Знаете, мистер Питерс, Томас стал мне совсем чужим. Подчас я думаю, что мысль о тех режимных условиях, в которых мы находимся, свела его с ума.
Глава 15
— Добрый вечер, миссис Беттертон!
— Добрый вечер, мисс Дженнсон.
— Сегодня состоится общее собрание, — сказала шепотом мисс Дженнсон, ее глаза беспокойно бегали за толстыми стеклами очков. — Сам Директор выступит с речью.
— Вот это здорово! — обрадовался стоявший рядом Питерс. — Давно я хотел хоть одним глазом взглянуть на этого самого Директора!
Мисс Дженнсон бросила на Питерса уничижительный взгляд.
— Директор, — проговорила она сухо, — более чем необыкновенный человек! — И она направилась куда-то по одному из этих немыслимых длинных коридоров. Питерс посмотрел ей вслед и тихо свистнул.
— Здесь что-то пели на мотив «хайль, Гитлер» по адресу Директора или мне показалось?
— Да, действительно, похоже на это, — грустно согласилась Хилари.
— Если бы я только знал, что меня занесет сюда! Если бы я, покидая Штаты с мальчишеской мечтой о добром Братстве народов, мог предположить, что попаду в когти нового богоданного диктатора!..
— Но ведь и сейчас вы еще ничего не знаете толком…
— Нет, знаю. По запаху чувствую. Это носится в воздухе!
— О, Питерс! — вырвалось у Хилари. — Как я рада, что здесь есть вы!
И она слегка покраснела под удивленным взглядом собеседника.
— Вы такой милый и простой, — Хилари, пытаясь выйти из неловкого положения, все более запутывалась. Это, казалось, развеселило Питерса.
— А вы, знаете, — улыбнулся он — там, откуда я приехал, слово «простой» имеет иное значение, чем в Англии. Оно скорее означает «посредственный».
— Но я совсем не это имела в виду! — пришла в полное отчаяние Хилари. — Я хотела сказать, что с вами очень легко.
— Обыкновенный человек, вот чего вы жаждете, да? Сыты по горло гениями?
— А ведь вы, Питерс, переменились с тех пор, как приехали сюда. Кажется, исчез налет ненависти…
Лицо Питерса неожиданно стало суровым.
— О, нет! На это не рассчитывайте. Я все еще способен ненавидеть. Поверьте, есть вещи, которые надо ненавидеть.
Общее собрание, пользуясь терминологией мисс Дженнсон, началось поздно вечером. Не были приглашены лишь лаборанты, артисты балета и ревю, различный обслуживающий персонал, а также хорошенькие девицы из «дома радости», который вполне легально существовал для удовлетворения соответствующих потребностей тех ученых, что жили здесь без жен.
Хилари, сидевшая рядом с Беттертоном, с нетерпением ожидала появления на трибуне мифической фигуры Директора. На ее многочисленные вопросы, касающиеся этого человека, Томас всегда отвечал как-то неопределенно.
— Там и смотреть-то не на что, — сказал он однажды. — Но у него необыкновенная хватка. Я видел его всего дважды. Он не любит показываться часто. Он, конечно, необыкновенная личность, это чувствуется сразу, но почему, честное слово, не знаю.
Мисс Дженнсон и другие женщины говорили о Директоре с придыханием, и в воображении Хилари рисовалась высокая фигура в белом одеянии — какая-то богоподобная абстракция.
И естественно, что она была безмерно удивлена, когда присутствующие встали, приветствуя плотного небольшого роста пожилого мужчину, который медленно взошел на трибуну. В его внешности не было ничего необыкновенного, он вполне мог сойти за дельца средней руки из Мидленда.
Его национальность определить было трудно. К аудитории он обращался на французском, немецком и английском, свободно переходя с одного языка на другой и никогда не повторяясь.
Когда Хилари пыталась восстановить в памяти, что же он все-таки говорил, ей никак не удавалось сделать это. Видимо, эти слова имели силу и смысл только в том случае, если их произносили вслух.
Хилари вспомнила, что рассказывала ей одна знакомая, которой довелось в довоенные годы жить в Германии. Отправившись как-то на митинг только за тем, чтобы взглянуть на «бесноватого фюрера», она залилась там истерическим плачем, охваченная непонятными чувствами. Она говорила, что каждое произнесенное им слово казалось ей полным какого-то необыкновенного значения. А когда она, придя домой, пыталась все это припомнить, то оказалось, что, кроме общих избитых фраз, ничего сказано и не было.
Что-то в этом роде происходило и здесь. Сама того не желая, Хилари ощущала какой-то подъем. Директор говорил очень просто.
— Концентрация капитала, престиж, влиятельные семейства — все это было силой прошлого. Сегодня же сила в руках молодых химиков, физиков, врачей… Из лабораторий грядет сила разрушения и созидания. Вы можете сказать: «Победить или погибнуть!» Этой силой не будет владеть какая-то одна страна, ею будет обладать тот, кто ее создаст. Наша Организация — это сборный пункт молодых умов всего мира, у нас нет людей старше сорока пяти лет! Настанет день, когда мы создадим Трест. Мозговой Трест Мира. И тогда мы будем управлять всем сущим. Это мы будем диктовать приказы капиталистам, королям и армиям, мы подчиним себе мировую индустрию…
Всей этой отравленной чепухи было произнесено гораздо больше. Но дело было даже не в словах. Видимо, определенная сила ораторского искусства сумела захватить эту обычно холодную и критически настроенную аудиторию.
Речь свою Директор закончил лозунгом: «Мужество и Победа!» Хилари в смятенном состоянии поспешила в коридор. На лицах она видела какое-то странное воодушевление. Обычно сонные глаза Эрикссона блестели, голова была надменно закинута назад.
— Пойдемте на крышу. Глоток свежего воздуха просто необходим, — услышала она шепот Питерса, и он осторожно взял ее под руку.



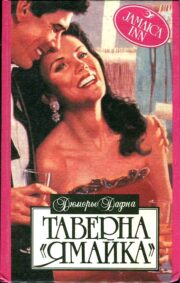
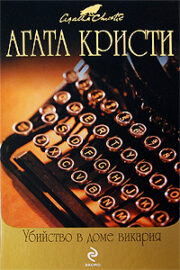

"Место назначения неизвестно" отзывы
Отзывы читателей о книге "Место назначения неизвестно", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Место назначения неизвестно" друзьям в соцсетях.