– Нет, смотрите, что они делают! – воскликнул с восхищением Кочрейн.
Дервиши принудили всех своих верблюдов встать на колени и сами все спешились. Впереди всех выделялась высокая, величественная фигура эмира Вад Ибрагима. На мгновение он молитвенно преклонил колена и воздел руки, затем он встал и, выпрямившись во весь рост, обратился к окружавшим его людям с краткой речью. Закончив свою речь, он что-то взял с седла, разостлал на земле и встал на эту разостланную подстилку.
– Славный малый! – воскликнул Кочрейн. – Он встал на свою «овечью шкуру».
– Что это значит? – осведомился мистер Стюарт.
– Видите ли, – пояснил Кочрейн, – каждый араб всегда имеет при себе на седле овечью шкуру. Когда он признает, что его положение совершенно безысходно, и решается биться до последней капли крови, тогда он снимает с седла свою овечью шкуру и стоит на ней до тех пор, пока не упадет мертвым. Смотрите, они все до последнего стали на свои овечьи шкуры. Это значит, что они уже не дадут и не примут пощады!
Эта страшная драма быстро близилась к развязке. Окруженные тесным кольцом неприятелей, обстреливавших их со всех сторон, арабы отстреливались, как могли. Многие из них были уже убиты, но остальные беспрерывно заряжали и стреляли все с тем же непоколебимым мужеством.
Около дюжины трупов в мундирах египетской армии свидетельствовали о том, что победа эта досталась им не даром. Но вот раздался призывный звук трубы, – и отряд из Сарры, и отряд из Хальфы разом открыли по этой горсти людей перекрестный огонь; один-два залпа, и все это маленькое поле застлал густой белый клубящийся дым. Когда он рассеялся, все арабы лежали на своих овечьих шкурах: все они полегли – все до последнего.
Дамы, объятые ужасом и, вместе с тем, невольным удивлением перед этим геройством, смотрели на страшную сцену, разыгравшуюся у них перед глазами.
Теперь, когда все было кончено, Сади и мисс Адамс плакали, обняв друг друга. Полковник Кочрейн хотел было обратиться к ним с несколькими словами утешения или ободрения, когда взгляд его случайно упал на лицо миссис Бельмонт. Она была бледна, как полотно, черты лица были безжизненны и неподвижны, а большие серые глаза с остановившимися зрачками смотрели куда-то в пространство, как у человека в трансе.
– Боже правый, миссис Бельмонт, что с вами?! – воскликнул полковник.
Но вместо всякого ответа она молча указала на пустыню, где на расстоянии многих миль, чуть не на самом краю горизонта, небольшая куча людей двигалась по направлению к этим скалам.
– Клянусь честью, там действительно что-то есть! Кто бы это мог быть?
Но расстояние было еще настолько велико, что сначала ничего нельзя было различить, и лишь спустя некоторое время можно было сказать с уверенностью, что это были люди на верблюдах и числом около двенадцати человек.
– Это, наверное, те негодяи, которых мы оставили там, у колодцев, – пробормотал Кочрейн, – это, без сомнения, не кто иной, как они!
Миссис Бельмонт все с тем же бледным, неподвижным лицом следила за приближающейся группой всадников. Вдруг она с громким криком вскинула вверх свои руки и воскликнула едва внятным от сильного внутреннего волнения голосом: – Это они! Они спасены!.. Ах, это они, это они, полковник. Хвала Господу Богу! Это они! – И она принялась метаться по площадке скалы, как ребенок в порыве неудержимого веселья и радости.
Никто не верил ей, но никто и не решался протестовать против ее уверений. Она сбежала уже вниз с холма к тому месту, где находился ее верблюд. Предчувствие давно указало ей то, чего никто еще, кроме нее, не мог увидеть. Она различила или угадала в той группе всадников три белых шлема. Между тем, маленький отряд приближался форсированным маршем, и прежде чем находившиеся над балкой друзья их успели выехать к ним навстречу, уже можно было рассмотреть, что это были действительно Бельмонт, Фардэ и Стефенс, драгоман Мансур и раненый солдат суданцев, эскортируемые негром Типпи-Тилли и остальными его товарищами – бывшими солдатами египетской армии. Бельмонт кинулся к жене, а monsieur Фардэ пожимал руку полковника Кочрейна, восклицая:
– Vive la France! Vivent les Anglais! Tout va bien, n'est сe pas? Ah, canailles! Vivent la Croix et les chretiens! – так несвязно и вместе искренно выражал добродушный и экспансивный француз свою радость.
Полковник также был чрезвычайно растроган и смеялся нервным, надорванным смехом, отвечая горячо и сердечно на рукопожатие Фардэ.
– Дорогой мой, – говорил Кочрейн, – я чертовски рад, что вижу вас всех опять. Я, было совершенно махнул на вас рукой. Право, ничему в своей жизни я еще не был так рад, как этому свиданию со всеми вами! Но какими судьбами вы спаслись?
– Это все благодаря вам, полковник!
– Благодаря мне?
– Ну да, а я еще ссорился с вами, негодный человек! Я теперь простить себе этого не могу!
– Об этом забудем совсем! Только как же это я мог спасти вас?
– Вы сговорились с этим Типпи-Тилли и его товарищами и обещали им известное вознаграждение, если они доставят нас невредимыми в Египет. Они, помня этот уговор, под покровом ночи, так как уже начинало темнеть, притаились в кустах, и когда мы остались одни, а вы все уехали, осторожно подкрались и из своих ружей застрелили тех, кому приказано было нас умертвить. Мне жаль только, что они застрелили и этого проклятого муллу, так как, мне кажется, я непременно убедил бы его принять христианство. Вот вам и вся наша история, а теперь, с вашего разрешения, я поспешу заключить в свои объятия почтенную мисс Адамс, так как вижу, что Бельмонт обнимает свою жену. Стефенс припал к руке мисс Сади и не может от нее оторваться, а на мою долю, очевидно, приходятся симпатии мисс Адамс!
Прошло около двух недель, и тот специальный пароход который был предоставлен в распоряжение спасенных туристов, отошел уже далеко к северу, значительно дальше Ассиу. На следующее утро они должны были прибыть в Балиани, откуда отправляется экспресс в Каир. Таким образом, это был последний вечер, который бывшие пассажиры «Короско» проводили вместе. Миссис Шлезингер и ее ребенок, которым удалось благополучно спастись, уже раньше переправились через границу. Мисс Адамс, после испытанных ею лишений и потрясений, была долгое время серьезно больна и в этот вечер впервые появилась на палубе парохода. Она казалась еще худощавее и еще добродушнее, чем всегда; Сади, стоя подле нее, заботливо укутывала ее плечи теплым пледом. Мистер Стефенс нес ей на подносике кофе и старался установить маленький столик подле качалки мисс Адамс, чтобы ей было удобней. В другом конце палубы мистер и миссис Бельмонт ласково беседовали между собой, держа друг друга за руки. Monsieur Фардэ разговаривал с полковником Кочрейном, стоявшим перед ним с сигарой в зубах, прямым, как струна, с прежней безупречной военной выправкой, которой он, по собственному его признанию, так гордился. Но что сделалось с ним? Кто бы признал в нем теперь того надломленного старика, седого, как лунь, которого все его спутники видели там, в Ливийской пустыне?! Правда, кое-где в усах серебрился седой волосок, но волосы его были того блестяще-черного цвета, которому так дивились все во время его путешествия. На все сочувственные соболезнования относительно того, как его состарили эти несколько дней плена у дервишей, полковник отвечал холодно и хмуро, затем, исчезнув на время в своей каюте, он, час спустя, появился на палубе совершенно таким, каким его все знали раньше.
Как мирно и спокойно было здесь, на палубе этого парохода, когда единственным доносившимся сюда звуком был тихий плеск волны о борт парохода, когда алый закат медленно догорал на западе, окрашивая в розовый цвет мутные воды реки. В сумерках надвигавшегося вечера стройные ряды прибрежных пальм, словно великаны минувших веков, смутно вырисовывались на фоне темного уже неба, на котором загорались то тут, то там большие лучезарные звезды.
– Где вы остановитесь в Каире, мисс Адамс? – спросила миссис Бельмонт.
– У Шенхердс, я думаю!
– А вы, мистер Стефенс?
– О, непременно у Шенхердс!
– Мы остановимся в «Континентале», но я надеюсь, что мы не потеряем вас из виду.
– О, не желала бы я никогда терять вас из вида, миссис Бельмонт! – воскликнула Сади. – Нет, право, вы должны приехать в Штаты: мы постараемся устроить вам самый лучший прием!
Миссис Бельмонт улыбалась.
– У нас, дорогая мисс Сади, есть свои обязанности и дела в Ирландии, мы и так слишком долго отсутствовали; кроме того, – добавила она с добродушным лукавством, – весьма возможно, что если бы мы собрались в Штаты, то уже не застали бы вас там!
– Но мы все же должны все когда-нибудь опять встретиться, – сказал Бельмонт, – уж хотя бы для того, чтобы еще раз пережить вместе эти страдания. Теперь все это еще слишком близко от нас, а через год-два мы лучше сумеем оценить их!
– А мне, – сказала его жена, – все это и теперь кажется чем-то давно прошедшим, чем-то смутным, как будто виденным мною во сне!
– Да, тело наше не так быстро забывает свои страдания, как ум, – сказал Фардэ, подняв вверх свою забинтованную руку, – это, например, не походит на сон!
– Как жестоко, однако, что одни из нас остались живы, а другие – нет. Если бы мистер Броун и мистер Хидинглей были теперь с нами, я была бы вполне счастлива, – проговорила Сади. – Почему в самом деле мы все остались живы, а они нет?
– Почему зрелый плод срывают, а недозрелый оставляют на ветке? – раздался в ответ на ее слова наставительный голос мистера Стюарта. – Нам ничего не известно о душевном состоянии наших бедных друзей, но Великий Садовник, чья мудрость превыше всякой мудрости, срывает плод когда он созрел и должен быть сорван. Мы же должны не роптать, возблагодарить Господа Бога за наше спасение! Что касается меня, в данном случае, то я ясно вижу и смысл, и цель того, что Бог попустил это несчастие и затем, по великой мудрости своей, сжалился над нами и сохранил нас. С полным смирением я признаюсь, что теперь я лучше понимаю и сознаю свои обязанности, чем раньше. Эти тяжелые минуты испытания научили меня быть менее нерадивым в исполнении моих обязанностей и менее беспечным и ленивым в делании того, что я считаю своим долгом!

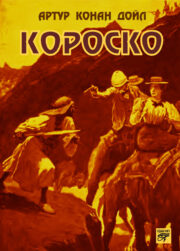



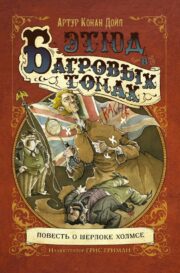
Книга «Короско» Артура Конан Дойла представляет собой захватывающее чтение. Это история о дружбе между двумя друзьями, Короско и Ральфом, которые противостоят всем ветрам и преодолевают все препятствия вместе. Эта книга поднимает вопросы о том, как дружба может помочь нам преодолеть любые препятствия и достичь успеха. Короско и Ральф представляют идеальный пример дружбы и преодоления препятствий. Эта книга помогает нам понять важность дружбы и принципы взаимопомощи. Я очень рекомендую эту книгу всем, кто ищет захватывающую историю о дружбе и преодолении препятствий.