Выдерживая ее неприязненный, торжествующий взгляд, он вернул ей сумочку.
— Да, — сказал он любезным тоном, — тут его нет.
— Вот именно. Вы не всегда правы, мосье Пуаро. И другое ваше смехотворное утверждение — оно тоже несправедливо.
— Нет, не думаю.
— С вами можно сойти с ума! — Она гневно топнула ногой. — Вы что-то вбили себе в голову и носитесь с этим!
— Потому что я хочу, чтобы вы сказали мне правду.
— Какую правду?! Такое впечатление, что вы знаете ее лучше меня самой.
— Хотите, я скажу, что вы видели? — сказал Пуаро. — Если я прав, вы подтвердите мою правду? Я думаю, что, огибая корму, вы придержали шаг, поскольку из каюты ближе к центру — наутро вы узнали, что это была каюта Линит Дойл, — вышел мужчина. Вы видели, как он вышел, закрыл за собою дверь и пошел дальше — может, вошел в какую-нибудь каюту на другом конце. Что скажете, мадемуазель, — я прав?
Она молчала.
— Вы, наверное думаете, что разумнее промолчать, — сказал Пуаро. — Вы, наверное, боитесь, что, если вы скажете, вас тоже убьют.
Ему показалось, что она клюнула на приманку, что обвинение в трусости проймет ее сильнее увещеваний.
Разомкнув задрожавшие губы, Розали Оттерборн сказала:
— Я никого не видела.
Глава 23
Оправляя манжеты, мисс Бауэрз вышла из каюты доктора Бесснера.
Жаклин тут же покинула Корнелию и заговорила с сиделкой.
— Как он? — спросила она.
Подоспевший Пуаро услышал ответ. Выглядела мисс Бауэрз встревоженно.
— Не то чтобы очень плохо, — сказала она.
— Ему хуже, значит? — воскликнула Жаклин.
— Что говорить, скорее бы добраться до места, сделать рентген и с обезболиванием почистить рану. Когда, вы думаете, мы будем в Шелале, мосье Пуаро?
— Завтра утром.
Поджав губы, мисс Бауэрз покачала головой.
— Как нескладно получается! Мы делаем все, что в наших силах, но опасность сепсиса[349] остается.
Жаклин вцепилась в ее руку.
— Он умрет? Умрет?
— Что вы, мисс де Бельфор! Надеюсь — уверена, что нет. Сама по себе рана неопасна, но, конечно, надо поскорее сделать рентген. И конечно, мистеру Дойлу нужен сегодня абсолютный покой. Он переволновался, перевозбудился. Ничего странного, что подскочила температура. Перенести смерть жены, да еще эти треволнения…
Жаклин отпустила ее руку и отвернулась. Привалившись к бортику, она стояла спиной к ним.
— Нужно всегда надеяться на лучшее, — продолжала мисс Бауэрз. — У мистера Дойла сильный организм, это видно, он, может, слова такого не знает: болеть. Так что это в его пользу. Но и закрывать глаза на такой скверный признак, как поднявшаяся температура…
Она затрясла головой, снова оправила манжеты и быстро ушла.
От слез ничего не видя перед собой, Жаклин побрела к своей каюте. Ее поддержала и повела ухватившая за локоть рука. Она подняла глаза: это был Пуаро. Приникнув к нему, она дала увести себя в каюту.
Там она опустилась на койку и не сдерживаясь бурно зарыдала.
— Он умрет! Умрет! Попомните меня: умрет…
И умрет от моей руки. Да-да, от моей руки…
Пуаро пожал плечами. Потом скорбно уронил голову.
— Что сделано, то сделано, мадемуазель. Сделанного не вернуть. Поздно теперь убиваться.
Она отчаянно выкрикнула:
— Он умрет от моей руки! А я так его люблю… Так люблю!
Пуаро вздохнул.
— Даже — слишком.
Давно уже, с того вечера в ресторане мосье Блондена, он жил с этой мыслью.
Сейчас, запинаясь, он говорил:
— Ни в коем случае не поддавайтесь тому, что говорит мисс Бауэрз. Сиделки — я их знаю, — они всегда такие мрачные! Ночная сиделка — обязательно! — удивится, что больной дожил до вечера; дневная — обязательно! — удивится, что он протянул до утра. Понимаете, они многое видели и всего опасаются. Когда человек ведет автомобиль, у него в голове могут мелькать такие мысли: «Если на тот перекресток вывернется из-за угла автомобиль… если у встречной машины отвалится колесо… если из кустов мне на руки прыгнет собака — eh bien, я скорее всего погибну!» Но человек внушает себе — и правильно делает, — что ничего подобного не случится и он благополучно доберется до нужного места. Вот если он побывал в аварии или ему приходилось видеть, как в нее попадали другие, он, конечно, будет держаться противоположной точки зрения.
Пытаясь улыбнуться сквозь слезы, Жаклин спросила:
— Вы стараетесь успокоить меня, мосье Пуаро?
— Bon Dieu знает, что я стараюсь сделать! Не надо было вам ехать в это путешествие..
— Я сама жалею, что поехала. Все было так страшно. Но… скоро все кончится.
— Mais oui — mais oui.
— Саймона положат в больницу, наладят за ним уход — и все будет замечательно.
— Вы рассуждаете как ребенок. «И стали они жить-поживать…»
Она густо покраснела.
— Поверьте, мосье Пуаро, я не имела в виду…
— «Об этом не время думать». А вы не слышите лицемерия в этих словах? Ведь в вас частица романской крови, мадемуазель. Вы примете действительность и без прикрас. Le roi est mort — vive le roi![350] Солнце зашло — и вышла луна. Ведь так?
— Вы заблуждаетесь. Просто он жалеет меня, страшно жалеет, потому что знает, каково мне жить с мыслью, что я причинила ему столько зла.
Он взглянул на нее насмешливо — и с каким-то еще чувством.
Чуть слышно он бормотал себе под нос:
Lavieestvaine.
Unpeud'amour,
Unpeudehaine,
Etpuisbonjour.
La vie est breve.
Unpeud'espoir,
Unpeude reve,
Etpuisbonsoir[351].
Он вернулся на палубу. Там уже вышагивал полковник Рейс, сразу его окликнувший.
— Пуаро! Отлично. Вы-то мне и нужны. У меня появилась одна мысль.
Взяв Пуаро под руку, он увлек его за собой.
— Дойл обронил слова, на которые я тогда не обратил внимания — что-то насчет телеграммы.
— Tiens, c'est vrai[352].
— Может, там пусто, но не бросать же на полпути. Ведь — два убийства, дружище, а мы все еще бродим впотьмах.
Пуаро замотал головой.
— Не впотьмах. Уже светло.
Рейс заинтересованно взглянул на него.
— Есть какое-нибудь соображение?
— Уже не соображение: уверенность.
— С какого же времени?
— Со смерти горничной, Луизы Бурже.
— Ни черта не понимаю!
— Между тем все ясно, мой друг, — совершенно ясно. Но какие трудности, шероховатости, осложнения! Над такими людьми, как Линит Дойл, со всех сторон схлестываются ненависть и зависть, злоба и алчность. Словно туча мух — и гудят, гудят…
— Но вы думаете, что знаете? — Собеседник смотрел на него с любопытством. — Без уверенности вы не скажете. А я, честно говоря, ничего впереди не вижу. Какие-то подозрения, конечно, есть…
Пуаро встал и выразительно сжал руку Рейса.
— Вы великий человек, mon colonel…[353] Вы не говорите мне: «Скажите, о чем вы сейчас думаете?» Вы знаете, что, если бы я мог сказать, я бы сказал это. Но еще многое надо прояснить. Поразмыслить, однако, в направлении, которое я укажу. Там кое-что есть… Есть заявление мадемуазель де Бельфор о том, что кто-то подслушивал наш с нею ночной разговор в Асуане. Есть заявление мосье Тима Аллертона относительно того, что он слышал и что делал в злосчастную ночь. Есть знаменательные ответы Луизы Бурже на наши вопросы сегодня утром. Есть то обстоятельство, что мадам Аллертон пьет воду, ее сын — виски с содовой, а я — вино. Прибавьте к этому два пузырька с лаком для ногтей и пословицу, которую я тогда вспомнил. Теперь мы подходим к самому загадочному в этой истории — к тому, что револьвер завернули в простой носовой платок, потом в бархатную накидку и выбросили за борт…
С минуту помолчав, Рейс покачал головой.
— Нет, — сказал он, — не улавливаю. Смутно понимаю, к чему вы меня подталкиваете, но ухватить не могу.
— Ну да, да. Вы видите лишь половину истины. И запомните: мы должны все начать сначала, поскольку наше первое представление было ошибочным.
Рейс скривился.
— Дело привычное. Работа детектива, думаю я частенько, в том и состоит, что бракуешь начатое — и начинаешь сначала.
— Верно, верно. А некоторые не понимают этого. Придумывают теорию — и к ней все подстраивают. Если какой-нибудь незначительный факт не подходит, они его отбрасывают. При этом важны как раз неподходящие факты. Мне все время казалось важным то обстоятельство, что с места преступления пропал револьвер. Я понимал, что это не случайно, но вполне осознал это лишь полчаса назад.
— А я до сих пор не понимаю.
— Поймете! Вы, главное, думайте в том направлении, что я подсказал. А теперь давайте разбираться с телеграммой. Если, конечно, не будет возражать герр доктор.
Доктор Бесснер еще не остыл. Открыв на стук, он нахмурился.
— В чем дело? Вы опять хотите видеть моего пациента? Это неразумно, говорю вам. У него жар. Он возбудился сегодня более чем достаточно.
— Мы зададим только один вопрос, — сказал Рейс, — только один, обещаю вам.
С недовольным ворчанием доктор отступил, и они вошли, сам же он, брюзжа под нос, вытеснился в дверь.
— Я вернусь через три минуты, — сказал он, — и тогда вы уйдете — категорически!
И его тяжелая поступь стихла на палубе.
Саймон Дойл переводил вопросительный взгляд с одного на другого.
— Что-нибудь случилось? — спросил он.

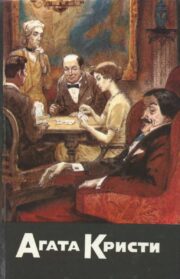




Захватывающие персонажи!
Невероятно захватывающая история!
Захватывающие повороты сюжета!
Невероятно захватывающее чтение!
Увлекательное чтение!
Незабываемое чтение!
Прекрасно написано!
Отличное произведение Агаты Кристи!
Отличное расследование!