Во время обеда разговор крутился вокруг животрепещущей темы шпионажа. Пересказывались старые, широко известные анекдоты. О сиделке с мускулистыми руками, о священнике, прыгнувшем с парашютом и совершенно не благочестиво выразившемся при жестком приземлении, об австрийской поварихе, прятавшей приемник в камине спальной, и обо всем, что случилось или чуть было не случилось с тетушками и двоюродными братьями и сестрами присутствующих. Разговор вышел на «пятую колонну». Посыпались обвинения в адрес английских фашистов, коммунистов, партии мира, уклонистов от военной службы. Это был совершенно обычный разговор, который можно было услышать почти каждый день, но тем не менее Таппенс пристально рассматривала лица и поведение говоривших, пытаясь уловить хоть какое-нибудь красноречивое выражение лица или слово. Однако все было напрасно. Лишь Шейла Перенья не принимала участия в разговоре, но это можно было списать на ее обычную неразговорчивость. Ее смуглое упрямое лицо было мрачным и задумчивым.
Карла фон Дейнима сегодня за столом не было, так что можно было не сдерживаться.
Шейла заговорила только в самом конце обеда.
Миссис Спрот пропищала своим тоненьким голосом:
– Немцы сделали очень большую ошибку во время прошлой войны, когда расстреляли сестру Кэвелл[11]. Они настроили против себя всех!
И тут Шейла вскинула голову и спросила своим гневным юным голосом:
– А почему бы им было не расстрелять ее? Она ведь была шпионкой, разве не так?
– О, нет-нет, она не была шпионкой!
– Она помогала англичанам бежать – на вражеской территории. Это одно и то же. Так почему ее нельзя было расстрелять?
– Но расстреливать женщину, тем более медсестру!..
Шейла встала.
– Я думаю, что немцы были правы, – сказала она и вышла через французское окно в сад.
На десерт были недозрелые бананы и вялые апельсины. Все встали и пошли в салон пить кофе.
Только Томми незаметно вышел в сад. Он нашел Шейлу Перенья на террасе. Она смотрела на море. Он встал рядом с нею.
По ее учащенному, короткому дыханию Томми понял, что она чем-то сильно взволнована. Он предложил ей сигарету. Она взяла ее.
– Красивая ночь, – сказал Бересфорд.
Низким, напряженным голосом девушка ответила:
– Если б так…
Томми с сомнением глянул на нее. Внезапно он ощутил ее привлекательность и бурлившую в ней энергию. В ней кипела жизнь, как неотразимая сила. Она была, подумал он, из тех девушек, из-за которых мужчины легко теряют голову.
– Вы хотели сказать – если б не война?
– Я ничего такого не хотела. Я ненавижу войну.
– Как и все мы.
– Я не об этом. Я ненавижу все эти фразочки, эту самоуверенность – этот ужасный, омерзительный патриотизм!
– Патриотизм? – опешил Томми.
– Да, я ненавижу патриотизм, понимаете? Ненавижу это заклинание – страна, страна, страна! Предать свою страну, умереть за свою страну, служить своей стране… Какое значение вообще имеет, кто в какой стране родился?
– Я не знаю. Просто так говорят, – ответил Томми.
– Но не я! Вам-то ладно – вы ездите за границу, продаете-покупаете по всей Британской империи и возвращаетесь, загорелый и набитый штампами, рассказываете байки про тамошних жителей и заказываете индийские коктейли и все такое.
– Надеюсь, я не настолько плох, девочка моя, – ласково ответил Томми.
– Я преувеличиваю, но вы понимаете, о чем я. Вы верите в Британскую империю и… и… и в глупость умирать за страну.
– Моя страна, – сухо ответил Томми, – как-то не очень озабочена тем, чтобы позволить мне умереть за нее.
– Да, но вы этого хотите! А это так глупо! Ничто не стоит смерти! Это все только идея, все слова, все пена, все это напыщенный идиотизм. Моя страна ничего для меня не значит!
– Однажды вы удивитесь, как много она для вас значит, – ответил Томми.
– Нет. Никогда. Я страдала… я видела…
Она замолчала, затем вдруг резко, импульсивно повернулась к нему:
– Знаете, кто был мой отец?
– Нет, – Томми загорелся интересом.
– Его звали Патрик Магуайр. Он… во время последней войны он был сторонником Кейсмента[12]. Его расстреляли как предателя! Ни за что! За идею! Он связался с теми, другими ирландцами. Почему он не мог тихо сидеть дома и заниматься своими делами? Для одних он мученик, для других – предатель… А мне кажется, он просто дурак!
Томми слышал, как в ее голосе прорывается скрытое возмущение. Он сказал:
– Так вот в этой тени вы и выросли?
– Верно, в тени. Мать поменяла фамилию. Несколько лет мы жили в Испании. Она всегда говорила, что отец был наполовину испанцем. Мы всегда лгали о себе, где бы мы ни были. Объездили весь континент. Наконец вернулись и завели гостиницу. И это худшее из всего, что мы сделали.
– И как ваша мать относится… ко всему этому? – спросил Томми.
– В смысле, к смерти моего отца? – Шейла немного помолчала, задумчиво нахмурившись. Затем медленно произнесла: – Даже не могу сказать… она никогда об этом не говорит. Что мама чувствует или думает – нелегко сказать.
Томми задумчиво кивнул.
Шейла резко сказала:
– Я… я не знаю, почему рассказываю вам все это. Что-то я завелась. С чего все началось?
– Со спора об Эдит Кэвелл.
– А, да, патриотизм… Я сказала, что ненавижу его.
– Разве вы забыли собственные слова сестры Кэвелл?
– Какие еще слова?
– Перед расстрелом. Вы не знаете, что она сказала? – Томми повторил слова: – «Патриотизм – это еще не всё… я не должна носить ненависти в сердце».
– О. – Девушка несколько минут стояла, ошеломленно замерев. Затем, быстро повернувшись, скрылась в саду.
– Как видишь, все сходится.
Таппенс задумчиво кивнула. Берег был пуст. Она опиралась на ограду волнолома, Томми сидел выше ее и самого волнолома, откуда ему было видно любого, кто мог бы подойти к ним по эспланаде. Впрочем, он никого не ожидал увидеть, поскольку почти точно знал, где каждый проведет нынешнее утро. В любом случае его рандеву с Таппенс носило все признаки случайной встречи, приятной для дамы и слегка неудобной для него самого.
– Миссис Перенья? – спросила Таппенс.
– Да. Игрек, а не Икс. Она подходит.
Таппенс снова задумчиво кивнула.
– Да. Она ирландка, как это заметила миссис О’Рурк, но не признается в этом. Много скиталась по континенту. Сменила фамилию на Перенья, приехала сюда и открыла пансионат. Отличное прикрытие, безобидное и скучное. Ее мужа расстреляли как предателя – у нее есть все основания для руководства «пятой колонной» в этой стране… Да, все сходится. Как думаешь, девушка тоже в этом замешана?
– Определенно нет, – решительно сказал Томми. – Иначе она никогда не рассказала бы мне всего этого. Я… я ощущаю себя немного сволочью, понимаешь…
Таппенс кивнула. Она полностью понимала его.
– Да, приходится. В каком-то смысле это грязная работа.
– Но очень необходимая.
– О, конечно.
Томми слегка покраснел.
– Я не люблю врать людям, как и ты…
Таппенс перебила его:
– Я не против немножечко приврать. Честно говоря, я испытываю артистическое удовольствие от своей лжи. Что меня выбивает из колеи – это моменты, когда забываешь лгать, когда становишься собой – и получаешь результаты, какие в другом случае никогда бы не получил. – Она помолчала. – Это и случилось с тобой прошлым вечером при разговоре с этой девушкой. Она отвечала настоящему тебе – вот потому у тебя на душе так противно.
– Наверное, ты права, Таппенс.
– Я знаю. Поскольку сама проделала то же самое с тем немецким юношей.
– И что ты о нем думаешь? – спросил Томми.
– Честно говоря, мне кажется, что он как-то с этим связан, – быстро ответила Таппенс.
– Грант тоже так думает.
– Этот твой мистер Грант! – У Таппенс сменилось настроение, она хихикнула: – Жаль, что мне не довелось видеть его физиономии, когда ты рассказал ему обо мне.
– В любом случае он публично признал свою неправоту. Так что ты определенно в деле.
Таппенс кивнула, но слегка рассеянно.
– Помнишь, после окончания прошлой войны, – сказала она, – когда мы выслеживали мистера Брауна… Помнишь, как нам было весело? Какое удовольствие мы получали?
Томми согласился. Лицо его посветлело.
– Да уж!
– Томми, почему сейчас иначе?
Бересфорд обдумал вопрос. Его спокойное некрасивое лицо помрачнело.
– Мне кажется, все дело в возрасте, – сказал он.
– Ты думаешь, мы слишком стары? – резко спросила Таппенс.
– Нет, я уверен. То есть нет. Просто… Просто сейчас это не забава. Как и во всех других отношениях. Это вторая наша война – и относимся мы к ней совсем по-другому.
– Понимаю. Мы видим беды, и потери – и ужас. Прежде мы были слишком молоды, чтобы думать об этом.
– Это так. Во время прошлой войны я был весь в шрамах, бывало, чудом жив оставался, пару раз прошел сквозь ад, но случались и хорошие времена.
– Наверное, Дерек так себя сейчас ощущает, – сказала Таппенс.
– Лучше не думай о нем, старушка, – посоветовал Томми.
– Ты прав. – Женщина стиснула зубы. – У нас есть работа. Мы намерены ее выполнить. И давай вернемся к делу. Мы нашли того, кого искали, в миссис Перенья?
– Мы можем, по крайней мере, сказать, что она хорошо подходит под описание. А больше никто у тебя подозрения не вызывает?


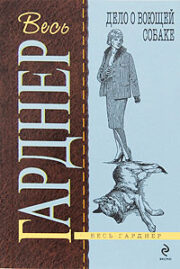



"Икс или игрек?" отзывы
Отзывы читателей о книге "Икс или игрек?", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Икс или игрек?" друзьям в соцсетях.