А должна была понимать.
Тех, кого любишь, надо понимать.
Ты не понимала, потому что было куда проще верить во все то легкое и приятное, что тебе хотелось принимать за правду, и не огорчать себя истинной правдой.
Как с Аврелией и страданиями, что пережила дочь.
Она не желала признавать, что Аврелия страдает…
Аврелия, которая всегда ее презирала…
Аврелия, которая видела ее насквозь с самых ранних лет.
Аврелия, которая была сломлена и обижена жизнью и которая, быть может, так и осталась несчастной.
Но держалась она мужественно…
Вот чего не хватало самой Джоан. Мужества.
«Мужество еще не все», — сказала она.
А Родни спросил: «Разве?..»
Родни оказался прав…
Тони, Аврелия, Родни — все они ее обвинители.
А Барбара?
Что случилось с Барбарой? Почему доктор был так уклончив? Что все они от нее скрывали?
Что натворило это дитя — эта пылкая, порывистая девочка, выскочившая замуж за первого же мужчину, который сделал ей предложение, чтобы удрать из дому.
Да, это была чистейшая правда — именно так поступила Барбара. Она чувствовала себя несчастной в семье. А была она несчастлива потому, что Джоан пальцем о палец не ударила, чтобы дочке было хорошо рядом с ней.
У нее не хватало для Барбары ни любви, ни понимания. Уверенно и эгоистично она решала сама, что нужно дочери, не обращая ни малейшего внимания на ее вкусы и желания. Друзья Барбары не находили в их доме гостеприимства, она осторожно отвадила их. Неудивительно, девочка воспользовалась случаем, чтобы сбежать в Багдад. Она вышла за Билла Рэя поспешно, сгоряча, без любви (как думал Родни). И что же случилось потом?
Роман? Несчастливый роман? С этим майором Ридом, возможно. Да, это объясняет их смущение, когда Джоан упомянула его имя. Видимо, этот Рид из тех мужчин, решила она, что способны соблазнить неразумное, не успевшее повзрослеть дитя.
А потом, растерявшись, впав в один из тех приступов отчаяния, к которым была склонна с самого раннего детства — Джоан помнила эти срывы, когда Барбара теряла чувство меры, — она попыталась… да, скорей всего именно так… лишить себя жизни.
И она была тяжело больна, очень тяжело, опасно больна.
Интересно, знал ли Родни? Он, естественно, пробовал уговорить ее не спешить в Багдад.
Нет, Родни не мог знать. Он бы ей сказал. Впрочем, может, и не сказал бы. Но он сделал все от него зависящее, чтобы не отпустить ее.
Однако она была решительно настроена ехать. Она сказала, что просто не переживет, если не увидит бедного ребенка.
Разумеется, это был искренний порыв.
Только… был ли он искренен до конца?
Разве ее не увлекала мысль о путешествии, новизна, возможность увидеть другой мир? Разве не выглядел заманчиво образ любящей матери? Разве не воображала она себя эдакой чуткой порывистой женщиной, бросившейся по первому зову к больной дочери и растерявшемуся зятю? Как им повезло, говорили они, что Джоан примчалась так стремительно.
Вообще-то они совсем ей не обрадовались! Если честно, они растерялись. Они предупредили доктора, сами держали язык за зубами, делали все возможное, чтобы она не пронюхала. Они не хотели, чтобы Джоан знала, потому что не доверяли ей. Барбара не доверяла ей. Скрыть от матери — вот о чем она всегда заботилась в первую очередь.
Какое облегчение дети испытали, когда она объявила, что должна возвращаться. Они не показали вида, вежливо протестовали, предлагали ей побыть еще немного. Но как только она всего на одну минуту задумалась о том, чтобы действительно остаться, Уильям поторопился ее отговорить.
Вот, по сути дела, единственное, чем оказался полезен ее поспешный бросок на Восток, — он странным образом сблизил Барбару и Уильяма, объединивших свои усилия, чтобы избавиться от нее и сохранить свою тайну. Забавно, если ее визит все же окажется не напрасным. Барбара, вспомнила Джоан, все еще слабая, часто умоляюще глядела на Уильяма, и тот, откликаясь на ее призыв, находил объяснения сомнительным моментам, ускользая от бестактных вопросов Джоан.
И Барбара смотрела на него благодарно… преданно.
Они стояли на платформе, провожали ее. И Джоан запомнила, как Уильям держал Барбару за руку, а Барбара чуть прислонилась к нему.
«Держись, милая, — вот что он хотел показать. — Потерпи, осталось совсем чуть-чуть, она уезжает…»
А после того как поезд отошел, они вернулись в свое бунгало в Алвайя и поиграли с Мопси, потому что оба они обожали Мопси, эту чудесную малышку, ужасно смешную копию Уильяма, и Барбара сказала: «Слава богу, она уехала, и мы можем делать дома что хотим».
Бедняга Уильям, он так любит Барбару и, должно быть чувствовал себя ужасно несчастным, однако его преданность и нежность выдержали испытание.
«Не волнуйся о ней! — сказала Бланш. — У нее все будет в порядке. У них ведь ребенок, да и вообще…»
Добрая Бланш убеждала Джоан не поддаваться волнению, которого та совсем не испытывала.
У Джоан на уме не было ничего, кроме спесивого, с оттенком снисхождения, презрения к старой подруге.
«Благодарю тебя, Господи, что я не такая, как эта женщина».
Да, она даже осмелилась молиться…
А теперь, в эту минуту, отдала бы что угодно, чтобы Бланш была с ней!
Бланш с ее простодушным, неназойливым милосердием, ее полнейшей неспособностью осудить любое живое существо.
Она молилась тогда, в той гостинице, набросив на себя покров лицемерия.
Сможет ли она помолиться сейчас, когда, похоже, у нее не осталось и жалких лохмотьев, чтобы прикрыться?
Джоан споткнулась и упала на колени.
Господи, взмолилась она, помоги мне..
Я схожу с ума, Господи, не дай мне сойти с ума.
Не позволяй мне больше думать…
Тишина…
Тишина и солнечный свет…
И удары ее собственного сердца…
Господь, подумала она, покинул меня…
Господь мне не поможет…
Я одна… совсем одна…
Эта ужасная тишина… это страшное одиночество.
Крошка Джоан Скьюдмор… глупая, ничтожная, претенциозная крошка Джоан Скьюдмор…
Совершенно одна в пустыне.
Христос, подумала она, был один в пустыне.
Сорок дней и сорок ночей…
…Нет, нет, это невозможно, никто этого не вынесет…
Тишина, солнце, одиночество…
Страх снова вернулся к ней… страх необъятного пустого пространства, где человек остается один на один с Богом.
Она поднялась с колен.
Надо вернуться в гостиницу, назад в гостиницу.
Индус… арабский мальчик… куры… пустые жестянки…
Присутствие человека.
Джоан дико озиралась по сторонам. Никаких признаков гостиницы, никаких признаков маленького станционного домика-пирамиды, и даже никаких холмов вдалеке.
Она, должно быть, ушла дальше, чем прежде, так далеко, что вокруг не осталось знакомых примет.
Джоан стало страшно. Она перестала понимать, в какой стороне гостиница…
Холмы конечно же не могли никуда исчезнуть, но вдоль всего горизонта ползли низкие облака…
Холмы? Облака? Отличить невозможно.
Она заблудилась, окончательно заблудилась…
Нет, если пойти к северу… правильно, к северу.
Солнце…
Солнце прямо у нее над головой… определить направление по солнцу нельзя…
Она заблудилась… заблудилась… ей ни за что не отыскать дороги…
Не выдержав, Джоан опять побежала.
Сперва в одну сторону, потом, все больше пугаясь, в другую. Она металась, не помня себя, в полном отчаянии.
Потом закричала, запричитала, стала звать на помощь.
На помощь…
На помощь…
Меня не услышат, поняла она, я слишком далеко.
Пустыня поглотила ее голос, превратила в едва слышное блеянье. Как овца, подумала она, как овца…
Он покоит и направляет овец своих…
Господь — Пастырь мой…..
Родни… зеленые пастбища… долина за Хай-стрит.
Родни, молила она, помоги мне, помоги…
Но Родни уходил от нее по платформе, выпрямив плечи, откинув голову… наслаждаясь мыслью о нескольких неделях свободы… чувствуя себя в эту минуту снова молодым.
Он не мог ее слышать.
Аврелия… Аврелия… возможно, Аврелия ей поможет?
Я твоя мать, Аврелия, я всегда все для тебя делала…
Нет, Аврелия спокойно выйдет из комнаты, бросив небрежно: «Едва ли я смогу чем-то помочь…»
Тони, ей поможет Тони.
Нет, и Тони не сможет помочь. Он в Южной Африке.
Это очень далеко отсюда…
Барбара… Барбара очень больна… Барбара отравилась.
Лесли, вспомнила она. Лесли бы помогла мне. Но Лесли умерла. Она страдала и умерла…
Плохо… никого нет…
Джоан снова бежала, в ужасе не понимая, куда бежит.
Пот струился по ее лицу, шее, по всему телу…
Это конец, подумала она…
Христос, вспомнила она… Христос…
Христос явится ей в пустыне…
Христос укажет ей путь к зеленой долине.
Поведет ее вместе с овцами…
Заблудшую овцу…
Раскаявшуюся грешницу…
Долиною смертной тени…
(Никакой тени — только солнце…)
К доброму свету. (Но солнце совсем недоброе…)
Зеленая долина… зеленая долина… она должна найти зеленую долину…
Которая начинается прямо за Хай-стрит, посреди Крейминстера.
Начинается прямо в пустыне…
Сорок дней и сорок ночей.
Только три дня прошло, Христос пока еще здесь. Господь, молила она, помоги мне…
Христос…
Что там?
Там, вдалеке, справа — такое крохотное пятнышко у горизонта!

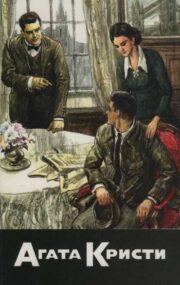

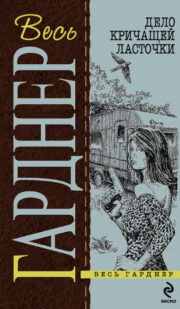
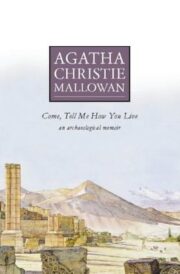
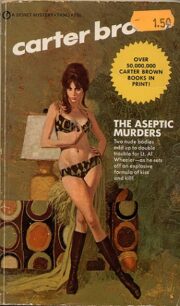
"Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной" отзывы
Отзывы читателей о книге "Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной" друзьям в соцсетях.