Это гостиница… она не заблудилась… она спасена… Спасена…
Ноги у нее подкосились, она тяжело рухнула на землю…
Глава 10
Джоан постепенно пришла в сознание…
Она чувствовала себя совершенно разбитой и больной…
Но она была спасена. Гостиница стояла на-месте. Скоро, когда ей немного полегчает, она поднимется и доберется до нее.
А пока лучше посидеть спокойно и все обдумать. Обдумать подробно и больше не обманывать себя.
Ведь Господь все же ее не покинул…
Она не испытывает больше этого ужасного чувства одиночества…
Но я должна подумать, сказала она себе, должна подумать. Должна во всем разобраться. Именно для этого я и оказалась здесь — чтобы разобраться…
Понять, раз и навсегда, что за женщина Джоан Скьюдмор…
Вот за этим ей и пришлось прийти сюда, в пустыню. Этот яркий беспощадный свет откроет ей, кто она. Откроет ту истину, которую она не хотела замечать, правду, которую она на самом деле давно знала.
Один ключ она вчера нашла. Возможно, с этого лучше и начать. Кажется, именно тогда ее и охватило впервые ощущение необъяснимой паники?
Она читала вслух стихи — вот с этого и пошло.
Весна цвела — был от тебя вдали я.
Так звучит строка, напомнившая ей о Родни, и она сказала: «Но ведь сейчас ноябрь…»
В точности как Родни сказал в тот вечер: «Но ведь сейчас октябрь…»
Вечером того дня, когда он поднялся на Эшлдаун с Лесли Шерстон — оба они сидели молча, и их разделяли фута четыре, не меньше. И кажется, она еще подумала, что это не очень-то по-дружески.
Но теперь-то она понимает, а должна была понять уже тогда, почему они сидели поодаль.
Они сидели так потому, разумеется, что не решались придвинуться ближе…
Родни — и Лесли Шерстон…
Не Мирна Рэндолф, никакая не Мирна Рэндолф. Она намеренно сочинила миф о Мирне Рэндолф, потому что знала, что за этим ничего нет. Она использовала Мирну Рэндолф как дымовую завесу, чтобы скрыть то, что было на самом деле.
И отчасти потому — будь честной сейчас, Джоан, — отчасти потому, что ей легче было смириться с Мирной Рэндолф, чем с Лесли Шерстон.
Самолюбие ее меньше страдало, когда она думала, что Родни увлекся Мирной Рэндолф — до того прелестной и соблазнительной, что не устоял бы любой.
Но Лесли Шерстон — Лесли, не красивая, не молодая, одетая кое-как. Лесли с ее усталым лицом и смешной кривоватой улыбкой. Признать, что Родни способен полюбить Лесли — да еще так горячо, что, сам себе не доверяя, держится от нее на расстоянии в четыре фута, — вот это было невыносимо.
Такое непреодолимое взаимное притяжение, такое отчаянное неудовлетворенное желание — сила страсти, какую ей не довелось испытать…
Вот это и чувствовали они оба тогда, сидя на Эшлдауне, — и она это поняла и именно потому ушла поспешно и в растерянности, не желая хоть на миг признаться себе, что догадалась…
Родни и Лесли сидели молча и не глядели друг на друга, потому что не осмеливались…
Лесли, любившая Родни так преданно, что ей захотелось быть похороненной в городе, где он жил…
Родни, который произносит, глядя на мраморную плиту:
«Так странно думать, что Лесли Шерстон лежит под этой холодной мраморной плитой». — И падающий бутон рододендрона — пунцовая вспышка.
«Кровь сердца, — сказал он. — Кровь сердца».
И потом:
«Я устал, Джоан. Я устал. — И еще, загадочно: — Все не могут быть мужественными…»
Он думал тогда о Лесли. О Лесли и о ее мужестве.
«Мужество — еще не все…»
«Разве?»
И нервный срыв у Родни — смерть Лесли была его причиной.
Он лежал в Корнуолле, ко всему безразличный, слушал чаек, молча улыбался…
Пренебрежительный мальчишеский голос Тони:
«Ты хоть что-нибудь знаешь о папе?»
Она не знала. Не знала ровно ничего! Потому что решительно не желала знать.
Лесли смотрит в окно, объясняя, почему она хочет родить ребенка от Шерстона.
Родни, тоже глядя в окно, произносит:
«Лесли во всем идет до конца».
Что видели тогда эти двое?
Видела ли Лесли яблони и анемоны у себя в саду? Видел ли Родни теннисный корт и пруд с золотыми рыбками? Видели ли они оба неброский, ласкающий глаз деревенский пейзаж, открывавшийся с вершины Эшлдауна, и лес, шумевший на ближнем холме…
Бедный Родни. Бедный, усталый Родни…
Родни с его доброй, насмешливой улыбкой, Родни, который называет ее бедная крошка Джоан… всегда готовый понять, простить, ни разу не предавший ее…
Но и она ведь всегда была ему хорошей женой, разве нет?
Она тоже в первую очередь думала о нем.
Думала?
Родни, глядящий на нее с мольбой, его грустные, неизменно грустные глаза.
Родни, который говорит ей: «Откуда мне было знать, что я до такой степени возненавижу кабинетную работу?» — и, глядя на нее в упор, спрашивает: «А откуда ты знаешь, что я буду счастлив?»
Родни, вымаливающий у нее жизнь, которая была бы ему по душе, жизнь фермера.
Родни, который стоит у окна своего кабинета в базарный день, наблюдая за стадом.
Родни, обсуждающий с Лесли Шерстон коров молочной породы.
Родни, который говорит Аврелии: «Если мужчина не занят любимым делом, то это не настоящий мужчина».
Вот что она, Джоан, сделала с Родни…
Потрясенная, она лихорадочно пыталась защищаться от того нового, что узнала о себе.
Она ведь верила, что так будет лучше! Ей приходилось делать то, что она считала практичным! У них росли дети, она заботилась о них. Ее побуждения не были сугубо эгоистическими.
Но дух протеста смолк.
Разве она не поступала как эгоистка?
Разве не ей вовсе не нравилось жить на ферме? Ей хотелось, чтобы у детей было все самое лучшее — но что значит лучшее? Разве Родни не имел права решать наравне с ней, что нужно или не нужно детям?
Разве не его слово должно было стать решающим? Разве не отцу положено выбирать, какой жизнью жить его детям, а матери заботиться об их благополучии, во всем поддерживая его?
Жизнь на ферме, говорил Родни, полезна для детей…
Тони бы она наверняка нравилась.
Родни позаботился о том, чтобы Тони занимался любимым делом.
«Я не умею заставлять», — сказал он.
Но она, Джоан, не побоялась заставить Родни…
Внезапно с мучительной болью она подумала: «Но я люблю Родни. Я люблю Родни. Это вышло не из-за того, что я его не любила…»
Но именно это, вдруг отчетливо поняла Джоан, и делало ее поступок совершенно непростительным.
Она любила Родни и тем не менее так с ним обошлась.
Если бы она ненавидела его, было бы куда понятней.
Если бы она была к нему безразлична, это не имело бы особого значения.
Но она любила мужа и, любя, отобрала у него право, данное ему при рождении, — право выбрать тот образ жизни, какой был ему близок.
Не раздумывая воспользовалась испытанным женским оружием — дитя в колыбели, дитя в утробе и лишила того, чего не вернешь. Частицы мужской сущности.
Потому что по доброте своей он не захотел с ней бороться, не захотел побеждать, оставаясь, вопреки всему, всю свою жизнь мужчиной…
Родни, повторяла она… Родни…
И твердила: мне ему этого не вернуть… я ничем не заменю… не смогу ничего сделать…
Но я люблю его, я на самом деле его люблю…
И я люблю Аврелию, Тони и Барбару…
Я всегда их любила…
(Но недостаточно — таков был ответ — недостаточно…)
Она думала: Родни… Родни, неужели я ничего не могу сделать? Ничего не могу изменить?
Весна цвела — был от тебя вдали я…
Да, думала она, разлучил надолго… после той весны… той весны, когда мы полюбили друг друга…
Я осталась, где была, — Бланш права — я выпускница школы Святой Анны. Живу без затей, стараюсь не задумываться, довольна собой, опасаюсь всего, что способно причинить боль…
Ни капли мужества…
Но что я смогу изменить? — спрашивала она себя. — Что исправить?
И она решила: я могу прийти к нему. Я могу сказать:
«Я виновата. Прости меня…»
Да, я могу так сказать: «Прости меня. Я не понимала. Я просто не понимала…»
Джоан встала. Ноги с трудом слушались ее, были будто чужие.
Она побрела медленно, с трудом, как старуха.
Шаг… еще шаг… одна нога… потом другая…
Родни, думала она, Родни…
Какой разбитой она себя чувствовала, какой беспомощной…
Это был долгий путь, очень долгий.
Индус выбежал ей навстречу из гостиницы, сияя. Он размахивал руками, жестикулировал:
— Хорошие новости, мемсаиб, хорошие новости!
Джоан тупо смотрела на него.
— Мемсаиб видеть? Поезд приходить! Поезд стоять на станции. Вы уезжать вечером.
Поезд? Поезд, который отвезет ее к Родни.
(Прости меня, Родни… прости меня…)
Джоан услышала, что она смеется… дико… неестественно… Индус с удивлением таращился на нее. Она взяла себя в руки.
— Поезд, — сказала она, — пришел как раз вовремя…
Глава 11
Просто как во сне, подумала Джоан. Да, все было как во сне.
Она зашла за загородку из колючей проволоки вместе с арабским мальчиком, который тащил ее чемоданы и визгливо что-то кричал по-турецки высокому толстому подозрительного вида мужчине, который оказался начальником станции.
А дальше ее уже ожидал такой знакомый спальный вагон и проводник в униформе шоколадного цвета.
И табличка «Халеб — Стамбул»[322].

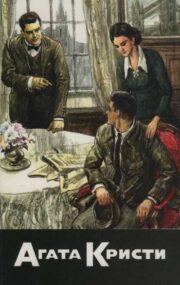

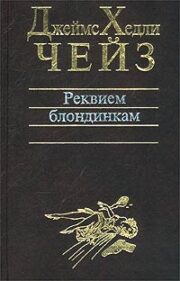

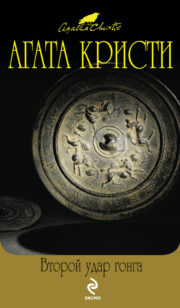
"Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной" отзывы
Отзывы читателей о книге "Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Хлеб великанов. Неоконченный портрет. Вдали весной" друзьям в соцсетях.