– Из этого окна Микки слезал вниз по магнолии. Это был его потайной ход в дом и из дома. Мать так и не узнала о нем.
– О, эти тайны, надежно скрытые от родителей!.. О них можно написать целую книгу. Но если ты, Эстер, действительно обдумываешь самоубийство, то прыгать вниз лучше с крыши летней веранды.
– Там, где она нависает над рекой? Да, там наверняка разобьешься о скалы!
– Твоя беда, Эстер, заключается в том, что твое воображение слишком мелодраматично. Обыкновенные люди удовлетворились бы более простым вариантом: уютно устроились бы около газовой плиты или отмерили себе достаточное количество таблеток снотворного.
– Я рада, что ты здесь, – неожиданно мирным тоном отозвалась Эстер. – Ты ведь не против поболтать о том о сем, правильно?
– Ну, на самом деле теперь мне особенно нечего делать, – заявил Филип. – Пойдем в мою комнату и поговорим. – Эстер медлила, и он продолжил: – Мэри сейчас внизу, отправилась, чтобы приготовить мне завтрак своими восхитительными белыми ручками.
– Мэри этого не поймет, – проговорила Эстер.
– Не поймет, – согласился Филип, – ни в коем случае не поймет.
Он покатил дальше, Эстер пошла рядом с коляской. Она открыла дверь гостиной, и Дюрран въехал внутрь. Девушка последовала за ним.
– Но ты все понимаешь, – заметила она. – Почему?
– Ну, знаешь ли, бывает такое время, когда приходится думать на подобные темы… К примеру, когда на меня навалилась эта самая хворь и я понял, что могу остаться калекой на всю жизнь…
– Да, – согласилась Эстер, – тебе тогда было ужасно, невозможно тяжело. Тем более что ты был летчиком… ты летал.
– Да. Высоко в небе, там, откуда земля кажется чайным блюдцем, – согласился Филип.
– Мне ужасно жаль. Жаль в самом деле. Мне следовало бы больше думать об этом и теплее относиться к тебе!
– Слава богу, что обошлось без этого, – отпарировал Филип. – Однако, как бы то ни было, фаза эта осталась в прошлом. Видишь ли… человек привыкает ко всему. Но есть кое-что, Эстер, чего ты не ценишь в данный момент. Однако ты это поймешь, если только не будешь очень опрометчивой и глупой. А теперь давай, рассказывай все. В чем беда? Наверное, поссорилась со своим приятелем, чопорным молодым доктором. Так?
– Это была не ссора, – возразила Эстер. – Это было хуже, чем любая возможная ссора.
– Все еще исправится.
– Нет, не исправится, – заторопилась с ответом девушка. – Не исправится… никогда.
– Ты слишком перебираешь с выразительностью. Ты воспринимаешь мир в черных и белых тонах, не так ли, Эстер? И никаких полутонов?
– Что я могу поделать с этим, если я такая… И всегда была такой. Все, что я могла или хотела сделать, всегда заканчивалось неудачей. Я хотела жить собственной жизнью, стать кем-то, сделать что-то. И все без толку. Я ни на что не гожусь. Я часто подумывала закончить жизнь самоубийством… начиная с четырнадцати лет.
С интересом наблюдавший за ней Филип проговорил спокойным, деловитым тоном:
– Ну да, между четырнадцатью и девятнадцатью годами люди пачками расстаются с жизнью. В этом возрасте жизнь воспринимается непропорционально. Школьники убивают себя потому, что боятся не сдать экзамены, а девчонки лишают себя жизни оттого, что матери не пускают их в кино с неподходящими, на их взгляд, юными приятелями. В эту жизненную пору все воспринимается в ярких красках цветного кино. Радость или отчаяние. Мрак или несравненное счастье. С этим состоянием надо бороться. Твоя беда, Эстер, заключается в том, что борьба твоя затянулась.
– Мать всегда была права, – сказала девушка. – Во всем том, что она не позволяла мне делать и что я хотела делать. Она всегда оказывалась права в отношении моих желаний, а я ошибалась. Мне это было нестерпимо, я не могла выносить ее правоту! Поэтому я решила, что мне следует научиться быть храброй. И я ушла из дома, чтобы пожить самостоятельно. Я должна была испытать себя. И все пошло прахом. Из меня не получилась актриса.
– И не должна была получиться, – сказал Филип. – Ты не знаешь дисциплины. И ты не можешь, как говорят в театральных кругах, дать сбор. Ты слишком занята тем, что взвинчиваешь себя, моя девочка. Чем ты занимаешься и сейчас.
– А потом я решила, что должна завести любовную интригу, настоящую, взрослую, – проговорила Эстер. – Не глупую, девичью… С мужчиной старше меня. Женатым и очень несчастливым в браке.
– Стандартная ситуация, – заметил Филип, – и он, вне сомнения, воспользовался ею.
– О, я думала, что это будет, так сказать, великая страсть с его стороны. Ты не смеешься надо мной? – Он умолкла, подозрительно посмотрев на Филипа.
– Нет, я не смеюсь над тобой, Эстер, – мягким тоном проговорил тот. – Я достаточно хорошо понимаю, каким адом была для тебя эта история.
– Никакой великой страсти не обнаружилось, – горьким тоном произнесла Эстер. – Дешевая и пустяковая интрижка. Ничто из того, что он нарассказывал мне о своей жизни и своей жене, не оказалось правдой. Я… я сама просто бросилась ему на шею. Какой дурой… глупой, ничего не стоящей маленькой дурой я была!
– Иногда пережитое помогает нам кое-что узнать, – заметил Филип. – Видишь ли, ничто из того, что произошло с тобой, не принесло тебе вреда. А возможно, даже помогло тебе повзрослеть. Или могло бы, если б ты пожелала.
– Мать оказалась такой… такой компетентной во всех этих вопросах, – уже с негодованием сказала Эстер. – Она явилась туда, все уладила, сказала мне, что если я действительно хочу поступить на сцену, то могу поступить в школу сценического мастерства и проделать весь положенный путь. Однако я на самом деле не хотела больше играть и к тому времени поняла, что ничего хорошего из меня не получится. Поэтому я вернулась домой. Что еще я могла сделать?
– Наверное, массу всяких вещей, – проговорил Филип. – Но это был самый легкий путь.
– O да! – с лихорадочным пылом воскликнула Эстер. – Как хорошо ты все понимаешь… Видишь ли, я ужасно слаба. Я всегда хочу заниматься легкими делами. И если бунтую против этого, то всегда как-то по-глупому и не добиваюсь успеха.
– То есть ты ужасно не уверена в себе, так? – осторожно спросил Филип.
– Возможно, это потому, что я всего лишь приемная дочь. Знаешь, я узнала об этом перед тем, как мне исполнилось шестнадцать. Я знала, что все остальные – приемыши, и однажды спросила… и узнала, что я сама тоже приемыш. Я испытала такое жуткое чувство… ну как если я всем чужая.
– Какая ты ужасная мастерица драматизировать ситуацию, – заметил Филип.
– Она не была мне матерью, – проговорила Эстер. – Она никогда не понимала меня, моих чувств. Только смотрела на меня этими своими добрыми и снисходительными глазами и строила планы относительно моего будущего. Ох, как я ненавидела ее! Это ужасно с моей стороны, я знаю, как это ужасно, однако я ненавидела ее!
– На самом деле, знаешь ли, – произнес Филип, – в жизни большинства девушек наступает недолгий период, когда они ненавидят своих матерей. В этом нет ничего необычного.
– Я ненавидела ее, потому что она была права, – сказала Эстер. – Это так ужасно – иметь дело с человеком, который всегда прав. Ты начинаешь чувствовать себя все более и более неполноценной. Ох, Филип, все так ужасно… Что же мне теперь делать? И что я могу сделать?
– Выйди замуж за этого твоего благополучного молодого человека и успокойся, – посоветовал Дюрран. – Стань хорошей маленькой женушкой этому терапевту. Или такая перспектива недостаточно блистательна для тебя?
– Теперь он не захочет жениться на мне, – со скорбью в голосе произнесла Эстер.
– Ты уверена? Он тебе это сказал? Или ты сама выдумала?
– Он думает, что это я убила мать.
– Вот как, – проговорил Филип и ненадолго умолк. – И ты действительно убила ее?
Она вихрем развернулась.
– Почему ты спрашиваешь меня об этом? Почему?
– Я подумал, что было бы интересно узнать это, так сказать, оставаясь в рамках семейства. Не для передачи властям.
– А если это я убила ее, то неужели рассказала бы об этом тебе?
– Разумнее было бы не делать этого, – согласился Филип.
– Он сказал мне, что все знает и что это я убила ее, – выпалила Эстер. – А еще сказал, что если я только признаюсь, если исповедаюсь ему, то все будет в порядке, что мы поженимся, что он будет следить за мной. Что… что это дело не станет преградой между нами.
Филип присвистнул.
– Ну и ну…
– И что хорошего вышло бы из того, если б я сказала ему, что не убивала ее? Он же не поверил бы этому, так?
– Должен был поверить, раз это ты сказала ему, – возразил Филип.
– Я не убивала ее, – вспыхнула Эстер. – Понимаешь? Я! Не! Убивала! Ее! Не убивала, не убивала, не убивала. – Помолчав, она заключила: – Довольно неубедительно, на мой взгляд.
– Правда нередко кажется неубедительной, – поддержал свою собеседницу Филип.
– Мы не знаем ее. И никто не знает. Мы все смотрим друг на друга. Мэри смотрит на меня. Кирстен тоже. Она так добра ко мне, так внимательна… Она тоже считает, что это я. И какие шансы у меня остаются? Куда лучше… куда лучше спуститься к воде… и броситься в нее…
– Эстер, ради бога, не будь дурой. Это не единственный выход.
– А какой еще выход может быть? Откуда ему взяться? Я потеряла все. Как мне теперь жить… переходить изо дня в день? – Она посмотрела на Филипа. – Ты считаешь меня неуравновешенной дикаркой… Ну ладно, предположим, что это я убила ее. Предположим, что меня гложет раскаяние. Что забвение никак не может прийти вот сюда. – Она драматическим жестом положила ладонь на сердце.
– Не будь маленькой идиоткой, – произнес Филип.
Протянув руку, он привлек к себе девушку. Эстер повалилась на его кресло. Он поцеловал ее.
– Девочка моя, что тебе нужно, так это муж. И не этот надутый молодой осел, Дональд Крейг, голова которого набита всяким психиатрическим сором и медицинским жаргоном. Ты глупая идиотка, но совершенно очаровательна, Эстер.


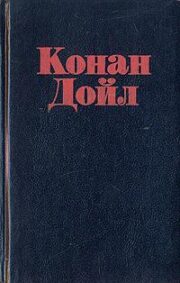



Эта книга Агаты Кристи просто потрясает. Она представляет собой историю о преступлении, которое происходит в маленьком городке в Англии. Автор прекрасно передает атмосферу места и погружает читателя в мир подозрительности и напряжения. Она показывает, как маленькие детали могут привести к большим последствиям. Эта книга помогла мне понять, что даже в маленьком городке могут происходить большие и загадочные вещи.
Невероятно захватывающий сюжет.
Отличное произведение для любителей детективов.
Невероятно захватывающий план.
Невероятно захватывающие персонажи.
Удивительное произведение Агаты Кристи.
Захватывающая история!
Отличное произведение для любителей детективных историй.
Невероятно захватывающие обстоятельства.
Эта книга Агаты Кристи произвела на меня глубокое впечатление. Она показывает нам, как простые люди могут попасть в невероятно сложную ситуацию, и как их жизни могут быть полностью изменены из-за одного неправильного решения. Книга показывает нам, что даже в самых тяжелых моментах нашей жизни мы все еще можем найти выход. Это произведение помогло мне понять, что все мы делаем ошибки, и мы должны извлечь из них уроки и продолжать двигаться вперед.
Захватывающие приключения.