Питерс сочувственно посмотрел на нее.
— Что, на вас это сильно давит? — спросил он.
— Еще как! Но я боюсь другого.
— Чего же?
— Боюсь начать привыкать.
— Вы правы, — задумчиво отозвался Питерс. — Я понимаю, что вы имеете в виду. Здесь происходит что-то вроде массового сеанса внушения.
— Мне кажется, находящиеся здесь должны были бы взбунтоваться, — сказала Хилари.
— Да, я тоже об этом думал. Если честно, у меня даже возникло подозрение, что тут дело нечисто.
— В каком смысле?
— Сначала подумал о медикаментах…
— Вы имеете в виду что-то вроде наркотиков?
— Ну да. Теоретически можно добавить в еду или питье что-нибудь такое, что… как бы это сказать?., вызывает покорность, что ли.
— А разве есть такие наркотики?
— Я в этом не слишком разбираюсь, но есть ведь всякие успокоительные, которые дают перед операциями… Существуют ли препараты, которые можно принимать на протяжении долгого времени без ущерба для умственных способностей — не знаю. Теперь я склоняюсь к тому, что идет скорее психологическая обработка. Я думаю, многие из здешней администрации разбираются в гипнозе и психологии, и нам, незаметно для нас самих, постоянно внушают, что нам хорошо, что мы должны добиться цели (какой бы она ни была), и это оказывает определенное воздействие. Если тот, кто этим занимается, знает свое дело, он может неплохо преуспеть.
— Но мы не должны с этим соглашаться! — горячо воскликнула Хилари. — Мы ни на секунду не должны верить, будто здесь хорошо!
— А что думает обо всем этом ваш муж?
— Том? Я… я не знаю… Это все так сложно… Я… — Она беспомощно замолчала.
Вряд ли она могла поведать собеседнику свою фантастическую историю. Вот уже десять дней она жила в одной комнате с посторонним человеком и, просыпаясь по ночам, слышала на соседней кровати его дыхание. Оба воспринимали это как данность. С самой Хилари все было ясно: она лазутчица, готовая играть любую роль и выдавать себя за кого угодно. Понять, что движет Беттертоном, она не могла. Для нее он был печальным примером того, что может случиться с блестящим молодым ученым, проведшим несколько месяцев в удушающей атмосфере Учреждения. Во всяком случае, в нем не было молчаливой покорности судьбе. Вместо того чтобы получать удовольствие от своей работы, он все больше и больше волновался из-за своей неспособности на ней сосредоточиться. Не единожды он повторял Хилари то, что говорил в первый вечер: «Я не в состоянии мыслить. Я иссяк».
«Да, — размышляла Хилари, — Тому Беттертону как гению свобода нужнее, чем кому бы то ни было. Никакое внушение не заставило его смириться с утратой свободы. Творить он может только на воле».
Сейчас он был на грани нервного срыва. К Хилари он относился до странности безразлично. Он не воспринимал ее ни как женщину, ни как друга. Непонятно было, скорбел ли он о гибели жены или даже не отдавал себе отчета в том, что она мертва. Все его мысли были сосредоточены на освобождении.
— Я должен вырваться отсюда, — вновь и вновь твердил он. — Должен. Должен! Я ничего не знал. Я представления не имел, куда попаду. Как мне отсюда выбраться? Я так больше не могу. Не могу!
По сути, это было примерно то же, что говорил Питерс, но в совсем иной тональности. Питерс вел себя как энергичный молодой человек, разозленный, переживший крушение иллюзий, но уверенный в себе и готовый помериться силами с организацией, во власти которой он оказался. А бунтарские речи Беттертона произносил человек отчаявшийся, почти обезумевший от желания вырваться на свободу. Хотя, пришло вдруг в голову Хилари, вполне возможно, что через полгода та же судьба ждет и ее с Питерсом. Здоровое чувство протеста и уверенности в собственной изобретательности сменится неистовым отчаянием попавшего в капкан зверя.
Если бы можно было обсудить все это с Питерсом! Если бы можно было сказать ему: «Том Беттертон — не мой муж. Я его совсем не знаю, не знаю, каким он был прежде, так что я в полном неведении. Я не могу ему помочь, потому что не знаю, что говорить и что делать». Вместо этого она произнесла, тщательно подбирая слова:
— Я не узнаю Тома. Он… он ничего мне не рассказывает. Мне иногда кажется, что заточение сводит его с ума.
— Не исключено, — сухо заметил Питерс. — Такое бывает.
— И все-таки… Вы так уверенно рассуждаете о побеге. Как отсюда бежать? У нас нет никакой возможности скрыться.
— Я и не говорю, что послезавтра мы стройными рядами отсюда уйдем. Все надо обдумать и тщательно спланировать. Видите ли, Олив, людям удается бежать из-под стражи и при самых неблагоприятных условиях. Сейчас у нас, да и у вас тоже, опубликовано много мемуаров о побегах из немецких тюрем.
— Ну, там все было по-другому.
— Почему же? Раз есть вход, должен быть и выход. Конечно, подземный ход тут не пророешь, так что большинство известных способов нам не подходит. Но выход, как я уже сказал, все равно должен быть. Немного изобретательности, отвлекающих маневров, актерских способностей, обмана и подкупа — и дело в шляпе, надо только все как следует обдумать. Одним словом, я здесь не останусь, можете мне поверить.
— Верю, — сказала Хилари и добавила: — А как же я?
— Ну, у вас положение несколько другое.
В его голосе звучала неловкость. Хилари не сразу поняла, что он имел в виду, но потом сообразила, что у нее, на взгляд всех окружающих, совсем другое положение, она воссоединилась с любимым человеком, от которого ей вовсе незачем бежать. У нее возникло искушение поведать Питерсу правду, но осторожность взяла верх.
Она попрощалась и спустилась вниз.
Глава 16
— Добрый вечер, миссис Беттертон.
— Добрый вечер, мисс Дженнсон.
Тощая очкастая девица была радостно возбуждена. Глаза ее светились за толстыми линзами.
— Сегодня будет собрание, — сообщила она. — Сам директор обратится к сотрудникам!
Эти слова она произнесла почти шепотом.
— Вот отлично, — сказал случившийся поблизости Энди Питерс. — Давно я хотел поглядеть на этого директора.
Мисс Дженнсон возмущенно посмотрела на него.
— Наш директор, — изрекла она строго, — замечательный человек.
Провожая взглядом ее фигурку в привычном белом коридоре, Питерс присвистнул.
— Мне почудилось, или я слышал что-то вроде «хайль Гитлер»?
— Именно так это и прозвучало.
— Беда в том, что в нашей жизни никогда не знаешь, куда попадешь. Если бы я, мечтавший, как мальчишка, о всемирном братстве людей, знал, уезжая из Штатов, что попаду в когти очередного проходимца, рожденного быть диктатором… — Он воздел руки к небу.
— Положим, наверняка вы этого не знаете и сейчас, — поправила его Хилари.
— Это носится в воздухе, — парировал Питерс.
— Господи, — воскликнула Хилари, — как я рада, что здесь оказались вы! — И тут же зарделась под его вопросительным взглядом.
— Вы такой симпатичный и простой, — попыталась она исправить свою оплошность.
Питерса это явно позабавило.
— В наших краях, — заявил он, — в похвалу «простым» не называют. У нас простой — это так себе, серый.
— Вы же понимаете, я не это имела в виду. Я хотела сказать, что вы такой же, как все. Боже мой, что я несу! Я не хотела вас обидеть.
— Одним словом, вы соскучились по нормальным людям? Сыты по горло гениями?
— Да. И потом, вы изменились со времени приезда сюда. В вас стало меньше горечи… меньше ненависти.
Лицо Питерса омрачилось.
— Вот тут вы ошибаетесь, — бросил он, — Ненависть никуда не делась. Поверьте, в этой жизни есть многое, что надо уметь ненавидеть.
Обещанное мисс Дженнсон собрание состоялось после ужина. Все научные сотрудники Учреждения собрались в лектории.
Среди слушателей не было только обслуживающего персонала: лаборантов, кордебалета, прислуги и группы девиц легкого поведения, обеспечивавших женское тепло сотрудникам, приехавшим без жен и не нашедших себе подруг среди коллег женского пола.
Сидя рядом с Беттертоном, Хилари с напряженным любопытством ждала появления на трибуне почти легендарного директора. Беттертон в ответ на ее настойчивые расспросы о личности человека, контролирующего Учреждение, отвечал уклончиво и маловразумительно.
— С виду он ничего особенного из себя не представляет, — заявил он, — но у него потрясающая аура[206]. Я его и видел-то раза два, он редко показывается на людях. Он человек незаурядный, это чувствуется, однако, по правде сказать, объяснить секрет его воздействия я не могу.
Под влиянием благоговейных речей мисс Дженнсон и некоторых других дам у Хилари создался туманный образ таинственного директора — высокого человека с золотистой бородой, в белых одеждах — живого воплощения некоей божественной абстракции.
Каково же было ее изумление, когда все дружно встали с мест, а на трибуну неспешно поднялся смуглый и довольно плотный пожилой мужчина. Внешность у него была самая что ни на есть заурядная, вроде какого-нибудь бизнесмена из Центральной Англии. Национальность его определить было трудно: он обращался к аудитории попеременно на трех языках, причем не повторяясь. По-французски, по-английски и по-немецки он говорил одинаково свободно.
— Прежде всего позвольте мне, — начал он, — приветствовать наших новых коллег.
Для каждого из вновь прибывших у него нашлось несколько теплых слов.
После этого директор перешел к целям и чаяниям Учреждения.
Впоследствии, пытаясь вспомнить его слова, Хилари обнаружила, что не в состоянии воспроизвести их сколько-нибудь подробно: может быть, потому, что они на поверку оказались банальными и избитыми. Все дело в том, как эти слова были сказаны.


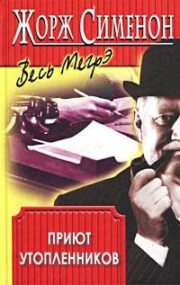



Эта книга Агаты Кристи просто потрясающая! Я был под впечатлением от истории, которая происходит в трех разных мирах. Я был под впечатлением от приключений Хикори, Дикори и Дока, которые преодолевают все препятствия и приходят к пониманию своего предназначения. Эта книга помогла мне понять, что наши мечты и желания могут быть достигнуты, если мы готовы преодолеть все препятствия и не боимся идти в неизвестное направление.