— Я не позволю вам убивать его,— гневно воскликнул он,— кто вы, что осмеливаетесь противиться моим желаниям? Оставь его, Туссак, сними свои пальцы с его шеи! Я говорю вам, не хочу этого!..
Но, видя, что его крик не поколебал их решимости, Шарль перешел к мольбам.
— Выслушай меня, Люсьен! Позволь мне расспросить его. Если он действительно полицейский шпион, он умрет. Тогда вы можете делать с ним, что хотите, Туссак! Но если он просто безобидный путник, попавший сюда по несчастной случайности и лишь из вполне понятного любопытства запутался в наши дела, тогда вы его предоставите мне!
С самого начала этого разговора я не произнес ни слова в свою защиту, но мое молчание отнюдь не могло служить доказательством избытка мужества. Меня удержала скорее гордость: утратить сознание собственного достоинства — это уже было слишком. Но при последних словах Шарля, я невольно перевел глаза со сжимавшего меня словно в тисках чудовища на тех двух, от которых зависел мой приговор. Грубость одного тревожила меня меньше, чем мягкая настойчивость другого, слишком усердно хлопотавшего о моем путешествии на тот свет: нет опаснее человека, чем тот, который боится, и из всех судей самым непоколебимым бывает тот, кто имеет основание чего-либо опасаться,— это общий закон. Моя жизнь зависела теперь от ответа Туссака и Лесажа на доводы Шарля.
Лесаж приложил палец к губам и снисходительно улыбнулся настойчивости своего приятеля.
— Пункт тринадцатый, пункт тринадцатый! — принялся повторять он тем же ожесточенным тоном.
— Я беру на себя всю ответственность!
— Я вам вот что на это скажу, мистер,— сказал Туссак своим резким голосом.— Существует другой пункт, помимо тринадцатого, по которому человек, приютивший преступника, сам преследуется, как укрыватель.
Но и этот довод не победил моего защитника.
— Вы прекрасный человек дела, Туссак,— сказал он спокойно,— но что касается до выбора пути, которым надо следовать, то вы уже предоставьте это более умным головам, чем ваша.
Тон спокойного превосходства, казалось, подействовал на это свирепое существо, всё еще не выпускавшее мою шею. Он пожал плечами в знак безмолвного несогласия, но на время покорился.
— Я положительно удивляюсь тебе, Люсьен,— продолжал мой защитник,— как ты, занимая такое положение в моей семье, осмеливаешься противиться моим желаниям?! Если ты действительно понял истинные принципы свободы, если ты пользуешься привилегией принадлежать к партии, которая никогда не теряла надежды на возможность восстановления республики, то через кого ты достиг всего этого?
— Да, да, Шарль, я знаю, что вы хотите сказать,— ответил взволнованный Люсьен,— я уверяю вас, что никогда не осмеливаюсь противиться вашему желанию, но в данном случае я боюсь, что ваше слишком чувствительное сердце привело вас к заблуждению. Если хотите, расспросите этого молодца, хотя мне сдается, что это всё равно не приведет ни к чему!
В этом, признаюсь, был уверен и я, потому что, зная страшную тайну этих людей, я не мог надеяться, что они позволят мне уйти отсюда живым. А как хороша мне казалась теперь жизнь! Как дорога даже эта временная отсрочка, и как бы коротка она ни была, рука убийцы оставила мою шею.
В этот миг в ушах у меня звенело; я готов был потерять сознание, и лампа казалась мне каким-то тусклым пятном. Но это ощущение длилось всего одно мгновенье; мои мысли сейчас же приняли нормальное течение, и я принялся рассматривать странное, худое лицо моего защитника.
— Откуда вы прибыли сюда?
— Из Англии.
— Но ведь вы француз?
— Да.
— Когда вы прибыли сюда?
— Сегодня в ночь!
— Каким образом?
— На парусном судне из Дувра.
— Он говорит правду,— проворчал Туссак,— это я могу подтвердить. Мы видели судно и лодку, из которой кто-то высадился на берег, как раз после того, как отчалила моя лодка.
Я вспомнил эту лодку, бывшую первым предметом, виденным мною во Франции, но я не подозревал тогда, какое роковое значение она будет иметь для меня. После этого мой защитник принялся предлагать мне самые разнообразные вопросы, неясные и бесполезные, тихим, словно колеблющимся голосом, который заставлял Туссака ворчать всё время. Этот допрос казался мне совершенно бесполезной комедией; но в уверенности и настойчивости спрашивавшего, с которым он тянул этот допрос, было что-то, указывавшее, что мой защитник надеется и имеет в виду какой-то исход. Верно, он просто хотел выиграть время. На что ему нужно было это промедление?
И вдруг, неожиданно, с той сообразительностью, которую придает сознание опасности, я угадал, что он действительно ждал чего-то, на что-то надеялся! Я читал это на его опущенном лице; он сидел со склоненной головой, приложив руку к уху, его глаза всё время горели беспокойным огнем. Шарль, по-видимому, надеялся на что-то, известное ему одному и говорил, говорил, говорил, желая выиграть время.
Я был так уверен в этом, как будто он поделился со мной своим секретом, и в моем измученном сердце вновь мелькнула легкая тень надежды. Но Туссак, раздражавшийся всё больше и больше при этом разговоре, прервал его наконец отчаянным ругательством.
— С меня вполне довольно этого,— крикнул он. — Я не для детской игры рисковал своей жизнью, являясь сюда! Неужели у нас нет лучшей темы для разговора, чем этот молодчик? Вы думаете, я выехал из Лондона, чтобы слушать ваши чувствительные речи? Пора покончить с этим господином и перейти к делу.
— Прекрасно,— ответил Шарль,— этот шкаф может прекрасно сыграть для него роль тюрьмы. Посадим его туда и приступим к делу. Вы можете расправиться с ним после!
— И дать ему возможность подслушать всё сказанное нами? — иронически сказал Лесаж.
— Не понимаю, какого черта вам нужно,— вскрикнул Туссак, подозрительно взглядывая на моего покровителя.— Я никогда не думал, что вы так щепетильны, уж, конечно, вы не были столь нерешительны по отношению к человеку с Боу-стрит! Этот молодчик знает наши тайны, и он должен умереть, или мы будем обвинены именно им. Какой смысл строить так долго планы и в последний миг освободить человека, который погубит всех нас?
Косматая рука снова потянулась ко мне, но Лесаж внезапно вскочил на ноги. Его лицо побелело; он стоял, склонив голову и напряженно прислушивался, вытянув вверх руку. Это была длинная, тонкая, нежная рука; она дрожала, как лист, колеблемый ветром.
— Я слышу что-то странное,— прошептал он.
— И я тоже,— прибавил старик.
— Что это такое?
— Тсс!.. Молчание! слушайте…
С минуту или больше мы прислушивались к шуму ветра, завывавшего в камине, порою со страшной силой ударявшегося о ветхое оконце.
— Нет, всё спокойно,— сказал Лесаж с нервным смехом,— в реве бури слышатся иногда такие странные звуки.
— Я ничего не слышу,— сказал Туссак.
— Тише! — вскрикнул другой,— опять то же самое!
Чистый звонкий вопль долетел до нас. Буря не заглушила его; сильный звук, начинавшийся с низких нот и переходивший в резкий, оглушительный вой, пронесся над болотом.
— Гончие собаки! Нас открыли! — Лесаж бросился к камину, и я видел, как он бросил свои бумаги в огонь и прижал их каблуком. Туссак быстро схватил деревянный топор, прислоненный к стене. Шарль оттащил всю груду ветхого невода от угла — обнаружился маленький деревянный трап, который скрывал вход в низкий подвал.
— Туда! — шепнул он,— скорее!
И пока я спускался туда, я слышал, как он сказал свои товарищам, что я из подвала удрать не могу, и что они могут разделаться со мной, когда захотят.
5. ЗАКОН
Подвал, куда я был втолкнут с такой поспешностью, был страшно низкий и узкий, и я почувствовал в темноте, что он был сплошь загорожен плетеными ивовыми корзинами. Сначала я не мог определить их назначение и только потом понял, что они служили для ловли омаров. Свет, проникавший сюда через щель в двери, совершенно ясно освещал всю комнату, которую я только что покинул. Измученный и истомленный, с призраком смерти в глазах, упорно преследующим меня, я, тем не менее, был еще способен наблюдать за происходившим передо мною.
Мой худощавый защитник с тем же хладнокровием продолжал сидеть на ящике. Охватив руками колени, он покачивался из стороны в сторону, и я заметил при свете лампы, что мускулы челюстей его ритмично сжимались и разжимались, как жабры рыбы. Около него стоял Лесаж с белым лицом, смоченным слезами, губы его не переставали дрожать от ужаса. Как он ни пытался придать более смелости своему лицу, она тотчас же сбегала с него при воспоминании о предстоящем ужасе. Туссак же стоял перед огнем с мужественной осанкой, с топором наготове, откинув назад голову в знак презрения к опасности. Его черная всклокоченная борода, точно щетина, торчала во все стороны. Он не сказал ни слова, но было видно, что он приготовился к борьбе не на жизнь, а на смерть!
Лай собаки доносился всё громче и яснее с болота; Туссак быстро подбежал к двери и распахнул ее.
— Нет, нет, оставь собаку в покое! — вскрикнул Лесаж, не могший дольше бороться с боязнью.
— Ты с ума сошел! Вся наша надежда основана теперь на том, успеем или не успеем мы убить ее.
— Но она на своре!
— Если она на своре, тогда ничто не спасет нас. Но я скорее склонен думать, что она бежит на свободе. Тогда мы можем спастись!
Дрожащий Лесаж снова прислонился к столу и не сводил своих испуганных глаз с двери. Человек, дружественно относившийся ко мне, продолжал покачиваться с какой-то странной полуулыбкой, застывшей на его лице. Его худая рука постоянно придерживала что-то на груди под рубахой, и я готов был поклясться, что он прятал какое-то оружие! Туссак стоял между ними и раскрытой настежь дверью, и хотя я боялся и ненавидел его, я не мог оторвать глаз от его словно выросшей и как-то облагородившейся фигуры. Я был так занят этой драмой, разыгравшейся передо мною, финалом которой могла явиться гибель всех обитателей хижины, что мысль о моем собственном положении совершенно испарилась из моей головы. Передо мной разыгрывалась страшная, захватывающая драма, и я был единственный зритель, спрятанный в скверном, грязном подвале!

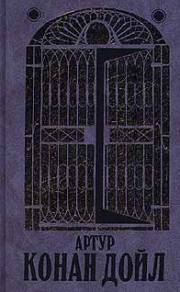
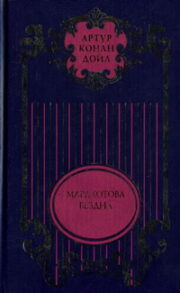


"Дядя Бернак" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дядя Бернак", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дядя Бернак" друзьям в соцсетях.