Долго молчали они, вслушиваясь в жужжанье жуков и пенье птицы вдали. Потом Председатель заговорил, и так задумчиво, словно не начинал, а продолжал беседу.
– Поедим и выпьем мы позже, – сказал он. – Побудем немного вместе, мы, что так долго сражались и так скорбно любили друг друга. Мне кажется, я помню века геройских битв, в которых вы бились, как герои, эпос за эпосом, песнь за песнью, и вас, братьев по оружию. Недавно (ведь время – ничто) или в начале мира я посылал вас на брань. Я сидел во тьме, где нет ни единого творенья, и был лишь голосом для вас, провозвещавшим доблесть и невиданную, немыслимую добродетель. Голос звучал из мрака, больше вы его не слыхали. Солнце отрицало его, земля и небо, вся человеческая мудрость. И когда я встречался с вами при свете, я сам его отрицал.
Сайм резко выпрямился в кресле, все молчали, и Непостижимый продолжил:
– Но вы были мужами. Вы не забыли тайну чести, хотя весь мир стал орудием пытки, чтобы выпытать ее. Я знаю, как близки вы были к аду. Я знаю, что ты, Четверг, скрестил меч с Сатаною, а ты, Среда, воззвал ко мне в час отчаянья.
В залитом звездным светом саду наступила тишина, потом чернобровый Секретарь повернулся и резко спросил:
– Кто ты и что ты такое?
– Я отдых воскресный, – отвечал Председатель не двигаясь. – Я – мир, я покой Божий. [29]
Секретарь вскочил, сминая рукой драгоценные одежды.
– Я знаю, что ты хочешь сказать! – воскликнул он. – И не прощаю. Ты – довольство, ты – благодушие, ты – примирение. А я не мирюсь. Если ты человек в темной комнате, почему ты был и главою злодеев, оскорблением для дневного света? Если ты изначально был нам отцом и другом, почему ты был злейшим нашим врагом? Мы плакали, мы бежали в страхе, оружие пронзило нам сердце[30] – и ты покой Божий? О, я прощу Богу гнев, даже если он всех уничтожит, но не прощу Ему такого мира!
Воскресенье не ответил ни слова, только обратил недвижное лицо к Сайму, как бы задавая вопрос.
– Нет, – сказал Сайм, – я не злюсь. Я благодарен тебе не только за вино и радушие, но и за лихую погоню, и за добрый бой. И все-таки мне хотелось бы знать. Душа моя и сердце мое блаженны, как этот сад, но разум неспокоен. Я хотел бы понять.
Воскресенье взглянул на Рэтклифа, и тот звонко сказал:
– Это ведь глупо! Ты был на обеих сторонах и боролся с самим собой.
– Я ничего не понимаю, – сказал Булль, – но счастлив. Мне так хорошо, что я сейчас усну.
– А мне плохо, – сказал профессор, охватив ладонями лоб, – потому что я не понимаю. Ты подпустил меня слишком близко к аду.
Гоголь произнес с простотой ребенка:
– Я хочу знать, почему меня так мучили.
Воскресенье молчал, опершись мощным подбородком на руку и глядя вдаль. Наконец он сказал:
– Я выслушал ваши жалобы. Вот идет еще один. Он тоже будет жаловаться, выслушаем и его.
Догоравший огонь бросил на темную траву последний отблеск, подобный бруску золота. По этой огненной полосе двигались черные ноги. Пришелец был одет как здешний слуга, только не в голубое, а в черное. Как и слуги, он носил шпагу или меч. Лишь когда он вплотную подошел к полумесяцу престолов, Сайм с удивлением увидел обезьянье лицо, рыжие кудри и наглую усмешку своего старого друга.
– Грегори! – вымолвил он приподнимаясь. – Вот он, истинный анархист.
– Да, – сказал Грегори с грозной сдержанностью. – Я – анархист истинный.
Доктор Булль бормотал во сне:
– «И был день, когда пришли сыны Божий предстать пред Господа; между ними пришел и Сатана».
– Ты прав, – сказал Грегори, оглядев поляну. – Я разрушитель. Если бы я мог, я разрушил бы мир.
Жалость, поднявшаяся из глубин земли, охватила Сайма, и он сбивчиво начал:
– Бедный ты, бедный! Попробуй быть счастливым. Волосы у тебя рыжие, как у твоей сестры.
– Мои рыжие волосы сожгут мир, словно пламень! – вскричал Грегори. – Я думал, что ненавижу все на свете больше, чем можно ненавидеть. Но теперь я понял, что еще больше я ненавижу тебя.
– Я никогда не чувствовал к тебе ненависти, – ответил Сайм с глубокой печалью.
– Ты! – крикнул Грегори. – Куда тебе, ведь ты и не жил! Я знаю, кто вы. Вы – власть. Вы – сытые, довольные люди в синих мундирах. Вы – закон, и вас еще никто не сломил. Но есть ли живая душа, которая не жаждет сломить несломленных? Мы, бунтари, болтаем о ваших преступлениях. Нет, преступление у вас одно: вы правите. Смертный грех властей в том, что они властвуют. Я не кляну вас, когда вы жестоки, я не кляну вас, когда вы милостивы. Я кляну вас за то, что вы в безопасности. Вы не сходили со своих престолов. Вы – семь ангелов небесных, не ведавшие горя. Я простил бы вам все, властители человеков, если бы увидел, что вы хотя бы час страдали, как страдал я…
Сайм вскочил, дрожа от внезапного прозренья.
– Я понял! – воскликнул он. – Теперь я знаю! Почему каждое земное творенье борется со всеми остальными? Почему самая малость борется со всем миром? Почему борются со Вселенной и муха, и одуванчик? По той же причине, по какой я был одинок в Совете Дней. Для того, чтобы каждый, кто покорен порядку, обрел одиночество и славу изгоя. Для того, чтобы каждый, кто бьется за добрый лад, был смелым и милосердным, как мятежник. Для того, чтобы мы смели ответить на кощунство и ложь Сатаны. Мы купили муками и слезами право на слова: «Ты лжешь». Какие страдания чрезмерны, если они позволяют сказать: «И мы страдали»?
Ты говоришь, что нас не сломили. Нас ломали – на колесе. Ты говоришь, мы не сходили с престолов. Мы спускались – в ад. Мы сетовали, мы жаловались, мы не могли забыть своих бед в тот самый миг, когда ты нагло пришел обвинить нас в спокойствии и счастье. Я отвергаю твою клевету, мы не были спокойны. Счастлив не был никто из великих стражей закона, которых ты обвиняешь. Во всяком случае…
Он замолчал и посмотрел в лицо Воскресенья, на котором застыла загадочная улыбка.
– А ты, – страшным голосом крикнул он, – страдал ли ты когда-нибудь?
Пока он глядел, большое лицо разрослось до немыслимых размеров. Оно стало больше маски Мемнона, которую Сайм не мог видеть в детстве. Оно становилось огромней, заполняя собою небосвод; потом все поглотила тьма. И прежде чем тьма эта оглушила и ослепила Сайма, из недр ее донесся голос, говоривший простые слова, которые он где-то слышал: «Можете ли пить чашу, которую Я пью?» [31]
Когда люди в книгах просыпаются, они оказываются там, где могли заснуть: зевают в кресле или устало встают с травы. Сейчас у Сайма все было не так просто, если и впрямь он прошел через то, что в обычном, земном смысле зовется нереальным. Хотя он хорошо помнил, что лишился чувств перед лицом Воскресенья, он никогда не смог вспомнить, как пришел в себя. Постепенно и естественно он осознал, что уже довольно долго гуляет по тропинкам с приятным, словоохотливым собеседником. Собеседник этот играл немалую роль в недавно пережитой им драме; то был рыжий поэт, Люциан Грегори. Они по-приятельски прогуливались, толкуя о пустяках. Но сверхъестественная бодрость и кристальная ясность мысли казались Сайму гораздо важнее того, что он говорил и делал. Он чувствовал, что обрел немыслимо благую весть, рядом с которой все становится ничтожным и в ничтожности своей – драгоценным.
Занималась заря, окрашивая мир светлыми и робкими красками, словно природа впервые пыталась создать розовый цвет и желтый. Ветерок-был так свеж и чист, словно дул сквозь дырку в небе. Сайм удивился, что по сторонам тропинки алеют причудливые дома Шафранного парка, – он и не думал, что гуляет совсем близко от Лондона. Повинуясь чутью, он направился к белой дороге, на которой прыгали и пели ранние птицы, и очутился у окруженного решеткою сада. Здесь он увидел рыжую девушку, нарезавшую к завтраку сирень с бессознательным величием юности.
1908



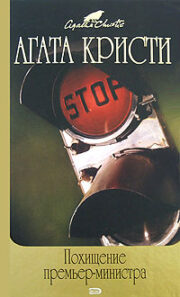


Невероятно захватывающий сюжет!
Очень забавное чтение!
Захватывающие персонажи!
Удивительное прочтение!
Удивительное путешествие в мир фантазии!
Очень интересное прочтение!
Невероятно захватывающие приключения!
Очень вдохновляющая история!
Очень забавные моменты!
Захватывающая история!