– Сайм, – просто и сурово сказал профессор, – ложитесь спать!
Однако Сайм еще долго сидел на постели, осваивая новый шифр. Проснулся он, когда восток был еще затянут мраком, и увидел, что у изголовья, словно призрак, стоит его седобородый друг.
Он присел на кровати, часто мигая; потом медленно собрался с мыслями и встал. Почему-то он ощутил, что радость и уют прошлого вечера безвозвратно исчезли и он снова погружается в холодный воздух опасности. Спутнику своему он был верен и доверял по-прежнему; но то была верность двух людей, идущих на эшафот.
– Ну вот! – сказал он с напускной веселостью, надевая брюки. – Мне снилась ваша азбука. Долго вы ее составляли?
Профессор молчал, глядя перед собой, и глаза его были такого же цвета, как зимнее море.
– Вы долго над ней возились? – снова спросил Сайм. – Говорят, я способен к языкам, а пришлось зубрить битый час. Неужели вы ее сразу выдумали?
Профессор не отвечал, глаза его были широко открыты, на губах застыла улыбка.
– Как долго вы занимались? – еще раз спросил Сайм.
Профессор не шелохнулся.
– Черт вас побери, можете вы ответить? – крикнул Сайм, скрывая злостью страх.
Неизвестно, мог профессор ответить или нет, но он не ответил.
Сайм уставился на безжизненное, как пергамент, лицо и чистые светлые глаза. Сперва он решил, что спутник его помешался; вторая мысль была еще ужасней. В конце концов, что он знает о странном человеке, которого принял за друга? Очень немного: человек этот завтракал с анархистами и рассказал ему нелепую басню. Вероятно ли, чтобы там, на балконе, оказался еще один из своих? Быть может, теперь профессор объявил войну? Быть может, неподвижно глядя вдаль, над ним глумится троекратный предатель, совершивший последнее предательство? Сайм стоял, прислушиваясь к неумолимой тишине, и ему казалось, что динамитчики тихо крадутся по коридору, чтобы схватить его.
Тут он случайно взглянул вниз и расхохотался. Профессор стоял неподвижно, как статуя, но пять немых пальцев живо плясали на мертвом столе. Сайм проследил их мельканье и прочел слова:
«Буду говорить только так. Надо тренироваться».
«Ладно, – весело пробарабанил он. – Идемте завтракать».
Они молча взяли шляпы и трости, но, когда Сайм брал свою трость, он стиснул ее в руке.
Остановились на несколько минут, чтобы выпить кофе с толстыми сандвичами в уличной кофейне, и поспешили на другой берег реки, унылой, как Ахерон, в светлевшем сером рассвете. Дойдя до высокого дома, который они вчера видели через реку, они медленно пошли по голым бесконечным ступенькам, лишь изредка останавливаясь, чтобы перекинуться фразой-другой, барабаня по перилам. На пустых площадках были окна, и между этажами в каждое окно глядела бледная, скорбная заря, медленно и мучительно поднимавшаяся над Лондоном. Виднелись шиферные крыши, подобные свинцовым валам серого моря, встревоженного дождем. Сайм ощущал все сильнее, что в его новую жизнь входит дух холодной рассудительности, куда более страшной, чем былые безумные приключения. Вчера вечером, например, высокий дом показался ему башней из страшного сна. Теперь, когда он устало поднимался по нескончаемой лестнице, его смущало и подавляло, что ей нет конца, но то был не ужас сна или заблуждения. Лестница напоминала скорее о математической бесконечности, невообразимой, но необходимой, или о пугающих расстояниях между звездами, известных нам от астрономов. Он поднимался в обиталище рассудка, который безобразней безумия.
Когда они достигли площадки, на которой жил доктор Булль, в последнее окно глядел ярко-белый рассвет, обрамленный багровыми тучами, больше похожими на красную глину, чем на алые облака. Когда же они вошли в пустую мансарду, она была залита солнцем.
Сайм пытался вспомнить что-то из истории, связанное с этими голыми стенами и суровым рассветом. Когда он увидел мансарду и доктора Булля у стола, он понял, что ему мерещится французская революция. На белом и красном фоне мрачного утра могла бы чернеть гильотина. Доктор в белой рубахе и черных брюках, со стрижеными черными волосами мог сойти за Марата или за небрежного Робеспьера, еще не надевшего парик.
Однако стоило вглядеться в него, как эти образы исчезали. Якобинцы были идеалистами; доктора отличал какой-то убийственный материализм. В резком утреннем свете, падавшем сбоку, он был и бледнее, и угловатей, чем на балконе гостиницы. Черные очки, прикрывавшие его глаза, еще сильнее походили на черные глазницы черепа. Если смерти доводилось сидеть за письменным столом, это была она.
Доктор поднял глаза и весело улыбнулся, потом вскочил с той упругой прытью, о которой говорил профессор. Придвинув им стулья, он подошел к вешалке, надел жилет и темный сюртук, аккуратно застегнулся и возвратился к столу.
Спокойное добродушие его действий обезоружило противников, и профессору не сразу удалось нарушить молчание.
– Сожалею, что пришлось так рано вас побеспокоить, – начал он, тщательно подражая манерам и слогу де Вормса. – Несомненно, вы уже распорядились насчет парижского покушения? – И прибавил с невыносимой медлительностью: – Мы получили сведения, которые требуют немедленных и неотложных действий.
Доктор Булль улыбался и молча глядел на них.
– Пожалуйста, – продолжал профессор, останавливаясь перед каждым словом, – не сочтите меня чрезмерно торопливым, но я советую вам изменить планы или же, если мы опоздали, немедленно следовать за товарищем Средою. С нами обоими случились некоторые происшествия, рассказывать о которых неуместно, если мы с вами не пожелаем воспользоваться… э-э… обретенным опытом. Тем не менее я готов изложить их, рискуя потерять время, ибо это поистине необходимо для уразумения задачи, которую нам предстоит разрешить.
Он сплетал словеса все медленней и нуднее, надеясь, что Булль выйдет из себя, а значит – хоть как-то себя выдаст. Но маленький доктор сидел и улыбался, никак не откликаясь на эту речь. Сайм страдал все сильнее. Улыбка и молчание доктора нимало не походили на застывший взгляд и страшное безмолвие, которым полчаса назад его испугал профессор. Сайм вспоминал о былых страхах, как о детском ужасе перед чудищем. Грим и повадки де Вормса были нелепы, как пугало. Теперь же, при дневном свете, перед ними сидел здоровый, крепкий человек, ничуть не странный, если не считать безобразных очков, благодушно улыбался и не говорил ни слова. Вынести это было невозможно. Свет становился все ярче, и разные мелочи – скажем, покрой костюма или румяные щеки – обретали ту преувеличенную важность, какая выпадает на их долю в реалистическом романе. Между тем улыбка была приятна, голова любезно клонилась набок, только молчание казалось поистине жутким.
– Как я уже сказал, – снова начал профессор, словно продвигаясь сквозь зыбучие пески, – случай, приведший нас сюда, чтобы осведомиться о маркизе, может показаться вам недостойным подробного изложения. Но так как непосредственно в нем замешан не я, а товарищ Сайм, мне представляется…
Слова его тянулись, как литания, но длинные пальцы отбивали быструю дробь по деревянному столу. «Продолжайте, – разобрал Сайм, – этот бес высосал меня досуха».
– Да, это было со мной, – начал Сайм, импровизируя вдохновенно, как всегда в минуту опасности. – Мне удалось разговориться с сыщиком, из-за шляпы он принял меня за порядочного человека. Я пригласил его в ресторан и напоил. Напившись, он размяк и прямо сказал мне, что дня через два они собираются арестовать маркиза в Париже. Если ни вам, ни мне не удастся его перехватить…
Доктор дружелюбно улыбался, его скрытые глаза были по-прежнему непроницаемы. Профессор пробарабанил, что может продолжать, и начал с таким же натужным спокойствием:
– Сайм немедленно явился ко мне, и мы поспешили к вам, чтобы узнать, не склонны ли вы воспользоваться нашими сведениями. Мне представляется, что необходимо как можно скорее…
Все это время Сайм глядел на доктора так же пристально, как доктор на профессора, но не улыбался. Соратники едва держались под гнетом недвижного дружелюбия, как вдруг поэт порядка небрежно пробарабанил по краю стола: «А у меня мысль!»
Профессор, не умолкая, ответил: «Дело ваше».
«Поразительная», – уточнил Сайм.
«Могу себе представить», – ответил профессор.
«Заметьте, – напомнил Сайм, – я поэт».
«Точнее, мертвец», – парировал профессор.
Лицо у Сайма стало алым, ярче волос, глаза сверкали. Как он и сказал, на него снизошло вдохновение, возвышенное и легкое. Он снова пробарабанил другу:
«Вы и не представляете, как прекрасна моя догадка! Что-то такое бывает в начале весны…» – и принялся изучать ответ.
«Идите к черту», – отвечал профессор и окончательно погрузился в медленное плетение словес.
«Скажу иначе, – барабанил Сайм. – Догадка моя подобна дуновению моря средь раннего разнотравья».
Профессор не отвечал.
«Нет, все не то, – сообщил Сайм, – она хороша и надежна, как пламенные кудри прекрасной женщины».
Профессор продолжал свою речь, когда его прервал странный возглас. Сайм склонился над столом и крикнул:
– Доктор Булль!
Тот все так же улыбался, голова его не дрогнула, но глаза под очками несомненно метнулись к Сайму.
– Доктор Булль, – четко и вежливо сказал Сайм, – не окажете ли мне небольшую услугу? Не будете ли вы любезны снять очки?
Профессор быстро обернулся и воззрился на друга, застыв от яростного изумления. Сайм перегнулся вперед, словно бросил все на карту; лицо его пылало. Доктор не шевельнулся.
Несколько секунд царило мертвое молчание, только гудок гудел где-то на Темзе. Потом доктор Булль, улыбаясь, медленно встал и снял очки.
Сайм вскочил с места и отступил на шаг, как читающий лекцию химик при удачном взрыве. Глаза его сияли, словно звезды, палец указывал на Булля. Говорить он не мог.
Вскочил и профессор, забыв о параличе, и смотрел на доктора так, словно тот внезапно превратился в жабу. Надо сказать, превращение его было ничуть не менее удивительно.


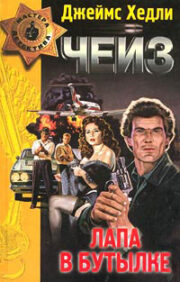


Невероятно захватывающий сюжет!
Очень забавное чтение!
Захватывающие персонажи!
Удивительное прочтение!
Удивительное путешествие в мир фантазии!
Очень интересное прочтение!
Невероятно захватывающие приключения!
Очень вдохновляющая история!
Очень забавные моменты!
Захватывающая история!