Он высунул в сторону острый локоть и приложил к уху, как заслонку, большую ладонь.
– Я не служу в английской полиции, – с безумным спокойствием сказал Сайм.
Профессор де Вормс откинулся на спинку стула так странно, словно ему нехорошо, но он ничуть не сердится.
– Очень жаль, – сказал он. – А я вот в ней служу.
Сайм вскочил, отшвырнув скамейку.
– Что? – глухо спросил он. – Где вы служите?
– В полиции, – ответил профессор, радостно улыбаясь, и глаза его впервые засияли сквозь очки. – Но поскольку вы считаете, что полицейский – понятие относительное, нам с вами говорить не о чем. Я служу в полиции, вы не служите, встретились мы на сборище анархистов. Видимо, придется вас арестовать. – И он положил перед Саймом на стол голубую карточку – точно такой же, как у него самого, знак полицейской власти.
Сайму показалось, что мир перевернулся вверх дном, деревья растут вершиной вниз, звезды сверкают под ногами. Затем им овладело другое, противоположное чувство: последние сутки мир стоял вверх ногами, а теперь, перекувырнувшись, встал как должно. Бес, от которого он так долго бежал, оказался членом его семьи, старшим братом, который сидел по ту сторону стола и смеялся над ним. Сайму ни о чем не хотелось спрашивать, он радовался глупому, блаженному факту: тень, так назойливо преследовавшая его, была тенью друга, и тот в нем нуждался. Он чувствовал себя и глупым, и свободным – нельзя излечиться от недоброго мрака, не пройдя через здравое унижение. Бывают минуты, когда нам остается одно из трех: упорствовать в сатанинской гордыне, расплакаться, рассмеяться. Несколько мгновений Сайм из самолюбия придерживался первого выхода, потом внезапно избрал третий. Выхватив из кармана голубую карточку, он швырнул ее на стол, закинул голову так, что светлый клин бородки устремился к потолку, и залился диким смехом.
Даже здесь, в тесном кабачке, где вечно звенели ножи, тарелки, кружки, ругань и всякую минуту могла начаться драка, кое-кто из полупьяных мужчин оглянулся, услышав гомерический хохот.
– Над кем смеетесь, хозяин? – спросил удивленный докер.
– Над собой, – ответил Сайм, заходясь и содрогаясь от счастья.
– Возьмите себя в руки, – сказал профессор. – С вами будет истерика. Выпейте еще пива. И я выпью.
– Вы не допили молоко, – заметил Сайм.
– Молоко! – с невыразимым презрением повторил профессор. – Ах, молоко! Стану я смотреть на эту дрянь, когда нет мерзких анархистов! Все мы здесь христиане, – добавил он, оглядывая пьяный сброд, – хотя, быть может, и не очень строгие. Молоко? Да уж, я его прикончу, – и он смахнул стакан, отчего тот разлетелся, а серебристые брызги взметнулись вверх.
Сайм глядел на него с радостным любопытством.
– Понял! – воскликнул он. – Значит, вы не старик.
– Сейчас я не могу разгримироваться, – сказал профессор де Вормс. – Грим довольно сложный. Не мне судить, старик ли я. Недавно мне исполнилось тридцать восемь.
– Я имел в виду, – нетерпеливо проговорил Сайм, – что вы совсем здоровы.
– Как сказать, – безмятежно ответил сыщик. – Я склонен к простуде.
Сайм опять засмеялся, слабея от облегчения. Ему было очень смешно, что философ-паралитик оказался молодым загримированным актером. Но он смеялся бы не меньше, если бы опрокинулась перечница.
Мнимый профессор выпил пива и отер фальшивую бороду.
– Вы знали, – спросил он, – что этот Гоголь из наших?
– Я? – переспросил Сайм. – Нет, не знал. А вы?
– Куда там! – отвечал человек, называвший себя де Вормсом. – Я думал, он говорит обо мне, и трясся от страха.
– А я думал, что обо мне, – радостно засмеялся Сайм. – Я все время держал на курке палец.
– И я, – сказал сыщик. – И Гоголь, наверное, тоже.
– Да нас было трое! – крикнул Сайм, ударив кулаком по столу. – Трое из семи, это немало. Если бы мы только знали, что нас трое!
Лицо профессора омрачилось, и он не поднял глаз.
– Нас было трое, – сказал он. – Если бы нас было триста, мы бы и тогда ничего не сделали.
– Триста против четверых? – удивился Сайм.
– Нет, – спокойно сказал профессор. – Триста против Воскресенья.
Самое это имя сковало холодом радость. Смех замер в душе поэта-полисмена прежде, чем на его устах. Лицо незабвенного Председателя встало в памяти четко, словно цветная фотография, и он заметил разницу между ним и всеми его приверженцами. Их лица, пусть зловещие, постепенно стирались, подобно всем человеческим лицам; черты Воскресенья становились еще реальней, как будто бы оживал портрет.
Соратники помолчали; потом речь Сайма снова вскипела, как шампанское.
– Профессор, – воскликнул он, – я больше не могу! Вы его боитесь?
Профессор поднял тяжелые веки и посмотрел на Сайма широко открытыми голубыми глазами почти неземной чистоты.
– Боюсь, – кротко сказал он. – И вы тоже.
Сайм сперва онемел, потом встал так резко, словно его оскорбили, и отшвырнул скамью.
– Да, – сказал он, – вы правы. Я его боюсь. И потому клянусь перед Богом, что разыщу его и ударю. Пусть небо будет ему престолом, а земля – подножьем, я клянусь, что его низвергну.
– Постойте, – сказал оторопевший профессор. – Почему же?
– Потому что я его боюсь, – отвечал Сайм. – Человек не должен терпеть того, чего он боится.
Де Вормс часто мигал в тихом изумлении. Он хотел что-то сказать, но Сайм продолжал негромко, хотя и очень волнуясь:
– Кто станет поражать тех, кого не боится? Кто унизится до пошлой отваги ярмарочного борца? Кто не презрит бездушное бесстрашие дерева? Бейся с тем, кого боишься. Помните старый рассказ об английском священнике, который исповедовал на смертном одре сицилийского разбойника? Умирая, великий злодей сказал: «Я не могу заплатить тебе, отец, но дам совет на всю жизнь – бей кверху!» Так и я говорю вам, бейте кверху, если хотите поразить звезды.
Де Вормс глядел в потолок, как ему и подобало по роли.
– Воскресенье – большая звезда, – промолвил он.
– Скоро он станет падучей звездой, – заметил Сайм, надевая шляпу с такой решительностью, что профессор неуверенно встал.
– Вы хоть знаете, что намерены делать? – в кротком изумлении спросил он.
– Да, – сказал Сайм. – Я помешаю бросить бомбу в Париже.
– А как это сделать, вам известно? – спросил профессор.
– Нет, – так же решительно отвечал Сайм.
– Вы помните, конечно, – продолжал мнимый де Вормс, поглаживая бороду и глядя в окно, – что перед нашим несколько поспешным уходом он поручил это дело маркизу и доктору Буллю. Маркиз, должно быть, плывет сейчас через Ла-Манш. Куда он отправится и что сделает, едва ли знает сам Председатель. Мы, во всяком случае, не знаем. Но знает доктор Булль.
– А, черт! – воскликнул Сайм. – И еще мы не знаем, где доктор.
– Нет, – отрешенно проговорил профессор, – это я знаю.
– Вы мне скажете? – жадно спросил Сайм.
– Я отведу вас туда, – сказал профессор и снял с вешалки шляпу.
Сайм глядел на него не двигаясь.
– Неужели вы пойдете со мной? – спросил он. – Неужели решитесь?
– Молодой человек, – мягко сказал профессор, – не смешно ли, что вы принимаете меня за труса? Отвечу коротко и в вашем духе. Вы думаете, что можно сразить Воскресенье. Я знаю, что это невозможно, но все-таки иду. – И, открыв дверь таверны (в залу ворвался свежий воздух), они вышли вместе на темную улицу, спускавшуюся к реке.
Почти весь снег растаял и смешался с грязью, но там и сям во мраке скорее серело, чем белело светлое пятно. Весь лабиринт проулков запрудили лужи, в которых прихотливо плясало пламя фонарей, словно внизу возникал и пропадал иной мир, тоже упавший с высот. Смешение света и мрака ошеломило Сайма, но спутник его бодро шагал к устью улочки, где огненной полосой пылала река.
– Куда вы идете? – спросил Сайм.
– Сейчас, – ответил профессор, – иду за угол. Хочу посмотреть, лег ли спать доктор Булль. Он бережет здоровье и рано ложится.
– Доктор Булль! – воскликнул Сайм. – Разве он живет за углом?
– Нет, – сказал профессор. – Он живет за рекой. Отсюда мы можем увидеть, лег ли он.
С этими словами он свернул за угол, стал лицом к мрачной, окаймленной огнями реке и указал куда-то палкой. В тумане правого берега виднелись дома, усеянные точками окон и вздымавшиеся, словно фабричные трубы, на почти немыслимую высоту. Несколько домов стояли так, что походили все вместе на многоокую Вавилонскую башню. Сайм никогда не видел небоскреба и мог сравнить эти дома лишь с теми, которые являются нам во сне.
Пока он смотрел, на самом верху испещренной огнями башни одно из окон погасло, словно черный Аргус подмигнул ему одним из своих бесчисленных глаз.
Профессор де Вормс повернулся и ударил палкой о башмак.
– Мы опоздали, – сказал он. – Аккуратный доктор лег.
– Как так? – спросил Сайм. – Значит, он живет на самом верху?
– Да, – сказал профессор. – Именно за тем окном, которого теперь не видно. Пойдемте ужинать. К нему мы отправимся с утра.
Он повел своего спутника окольными путями и вывел на шумную светлую улицу. По-видимому, профессор хорошо знал эти места, ибо сразу юркнул в закоулок, где освещенные витрины лавок резко сменялись тьмой и тишиной, а футах в двадцати от угла стояла белая харчевня, давно нуждавшаяся в ремонте.
– Хорошие харчевни еще попадаются, как динозавры, – пояснил профессор. – Однажды я наткнулся на вполне приличный уголок в Вест-Энде.
– Должно быть, – улыбнулся Сайм, – это соответствующий уголок в Ист-Энде?
– Вот именно, – серьезно кивнул профессор и открыл дверь.
Здесь они поужинали со знанием дела, здесь и заночевали. Бобы с ветчиной, которые тут стряпали очень вкусно, старое вино, неожиданно появившееся из здешних подвалов, окончательно утешили Сайма. Он знал, что теперь у него есть друг. Самым страшным за это время было для него одиночество, а на свете нет слов, способных выразить разницу между одиночеством и дружбой. Быть может, математики правы, дважды два – четыре. Но два – не дважды один, а тысячу раз один. Вот почему, как это ни накладно, мир всегда будет возвращаться к единобрачию.



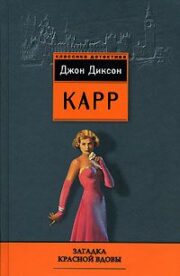
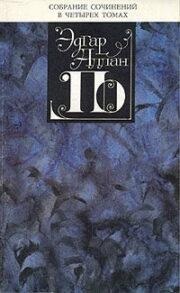
Невероятно захватывающий сюжет!
Очень забавное чтение!
Захватывающие персонажи!
Удивительное прочтение!
Удивительное путешествие в мир фантазии!
Очень интересное прочтение!
Невероятно захватывающие приключения!
Очень вдохновляющая история!
Очень забавные моменты!
Захватывающая история!