Письма стали для семьи страшным ударом.
Мадам Бюссон, все еще находившаяся в Гамбурге, бродила как тень среди своих друзей-немцев, то и дело заявляя, что дочь ее оскорбили и предали, и немного успокоилась только тогда, когда получила записку от Аделаиды: в ней говорилось, что Луиза все-таки была обвенчана по всем правилам и доказательство тому – кольцо у нее на пальце; сверились с церковной книгой, расспросили пастора, и выяснилось, что, даже если муж Луизы – мерзавец и негодяй, она – действительно мадам Уоллес и честь ее не запятнана.
Роберт навел в Лондоне справки касательно семейства Уоллесов и выяснил, что сэр Томас – обедневший пожилой джентльмен, не обладавший в Шотландии никаким весом; он уже много лет не видел своего сына. Луи-Матюрен, который был потрясен до глубины души и винил себя за то, что поощрял ухаживания секретаря, помчался в Версаль и со слезами на глазах стал просить, чтобы ему позволили побеседовать с сестрой. Она согласилась. В небольшую приемную она вышла очень бледная и сдержанная, но при виде брата самообладание последних недель покинуло ее, и она разрыдалась.
– Негодяй, мерзавец, я найду на него управу! – клялся брат, потрясая кулаками и изрыгая пламя, причем гнев его отчасти объяснялся тем, что сам он оказался ничуть не дальновиднее сестры: патент на его великое изобретение оставался несбыточной мечтой и влиятельные знакомства тоже.
Луиза твердо стояла на том, что не желает, чтобы ее мужа преследовали и выслеживали, однако события стремительно развивались своим чередом. Вскоре стало известно, что Годфри Уоллес разыскивается за кражу и мошенничество: он подделал в посольстве какие-то документы; словом, оказался обыкновенным мерзавцем.
Выяснилось, что и близкое знакомство с герцогом Палмелла было выдумкой; герцог прислал из Португалии письмо, в котором уверял, что почти не знает этого человека, они разве что один раз виделись в кафе. На свадьбу он попал только благодаря несказанной наглости, подкупив одного из швейцаров.
– Говорила я, зеленоглазым веры нет, – обратилась миссис Кларк к Эллен. – Если бы Луиза меня послушала, был бы у нее брачный договор и теперь она бы над ним посмеялась. Это надо же – выйти замуж без всяческих гарантий, а потом не получить с этого ни пенни – ей ведь даже и брачной ночи не досталось, – да уж, много у меня было в молодости занятных приключений, но, чтоб мне провалиться, до такого даже я не докатывалась!
– Я не верила ему с самого начала, – отозвалась Эллен. – Он как-то скользко смотрел из-под ресниц, мне это сразу же не понравилось, а кроме того, он все поглаживал бакенбарды своими тонкими пальцами – совершенно, на мой взгляд, отвратительная привычка.
– Ну уж и отвратительная! – возразила мать. – Может, он, конечно, и негодяй, но как и к чему приложить руки, он знал неплохо. Куда лучше, чем Луиза, уж это-то точно. Не устану повторять: точь-в-точь двойник Фолкстона. Эти зеленоглазые все пройдохи, но замашки у них очень занятные.
Она вздохнула, вспоминая, – рот у нее был набит леденцами, – а потом громко потребовала перо и бумагу и села писать к своему поверенному Фладгейту настойчиво и недвусмысленно интересуясь, чем объясняется такая недопустимая задержка с выплатой ее дивидендов от герцога Йоркского.
Бедняжка Луиза тем временем оставалась в монастыре и проводила бо́льшую часть времени на коленях перед распятием; и вот наконец, восьмого июля, тихая круглолицая монахиня принесла в ее голую келейку письмо.
Оно было написано четким размашистым почерком, который был ей так хорошо знаком. На штемпеле стояло «Кале». Луиза чуть помедлила; захлестнувшие ее чувства были почти непереносимы. Но потом она собралась с духом и взломала печать.
Прочитала она следующее:
Ах, Луиза, твой несчастный муж наконец-то получил по заслугам. Я прибыл в Кале и, по требованию твоего брата Луи, был арестован и помещен в тюрьму за тяжкое преступление – МОШЕННИЧЕСТВО и оставление ЖЕНЫ. Каковы бы ни были мои прегрешения, на сей счет моя совесть чиста. Призываю в свидетели Господа: я не оставлял свою жену. Расставание наше было временным, мне нужно было укрыться от разоблачения в том, что я сбежал с чужими деньгами из-за проклятого карточного стола. Надежда добыть немного средств, дабы расплатиться с ранее сделанными долгами, толкнула меня на этот необдуманный поступок. Если Сердце твое не полностью глухо к призывам Жалости, напиши мне, ради всего святого, и попытайся употребить свое влияние на то, чтобы меня выпустили из этого кошмарного Узилища. Я готов терпеливо принять справедливые кары Закона и жить только ради той, которая когда-то меня любила и чей образ навеки запечатлен в моем сердце. Стоит сказать слово герцогу Палмелла – и я выйду на свободу, дражайшая моя Луиза, а потом я попытаюсь загладить перед тобой свою Низменную вину. Прости своего некогда любимого супруга – или хотя бы сжалься над ним! Напиши ему, что ты так же несчастна, как и он; после таких слов он будет готов принять Смерть или любое другое Наказание, которое назначит ему Закон.
Более писать не могу, хочу лишь еще раз молить тебя хотя бы об одной строчке.
«Он все еще любит меня, – такова была ее первая мысль. – Несмотря ни на что, он остался мне верен. Нужно только послать ему денег, и мы опять будем вместе. И моя замужняя жизнь перестанет быть пустым обманом».
В лихорадочном возбуждении она впервые за много недель сняла монастырское облачение и отправилась в Париж. Добравшись до квартирки на улице Люн, она выяснила, что мать только что вернулась из Гамбурга и собирается к ней в Версаль. Да, все оказалось правдой. Годфри Уоллеса обнаружили. Как раз в то самое утро пришло письмо от Луи-Матюрена. Сам он – в Кале, а мерзавец – в тюрьме по его заявлению.
– Его нужно немедленно вызволить! – вскричала Луиза. – Мне нестерпимо думать, как он страдает от позора в этом узилище. Времени писать в Португалию нет, хотя я убеждена, что Эжени не отказалась бы мне помочь. Нужно где-то раздобыть денег и немедленно ему отправить. Мой муж поступил опрометчиво, даже жестоко, я этого не отрицаю, но он по-прежнему любит меня и живет только надеждой на наше воссоединение.
Вновь она отказывалась внимать доводам разума. Здравый смысл матери-бретонки не проникал в ее сознание; она не желала, отказывалась слушать.
– Он предал тебя один раз, предаст и снова, – увещевала мадам Бюссон. – Ты поступаешь как умалишенная. Он никогда к тебе не вернется.
– Вернется! Обязательно вернется! – стояла на своем Луиза; ее лицо, обычно такое нежное, исказилось от сдавленного гнева и страшной тоски. – Его письмо доказывает, как он меня любит. Как только его освободят, он примчится ко мне.
Слепым кротом она бегала по узкому кружку своих друзей, вымаливая пять франков здесь, пять франков там – восемьдесят вложила миссис Кларк, которая, в неожиданном приступе щедрости, отдала Луизе для продажи свое кольцо с рубином, заявив при этом, что не в силах отказать столь безоглядно и трагически влюбленной женщине, даже если женщина эта – первая дура во всей Франции.
Деньги были собраны и высланы по назначению. От Луи-Матюрена прилетело протестующее письмо. Ответом стало послание Луизы с угрозой, что она сама приедет в Кале, если мужу ее тотчас же не вернут свободу. Потом молчание. Все ждали ответа. Луиза не спускала глаз с дверей материнской квартиры, ожидая с утра до ночи, что дверь распахнется и ее несчастный обожаемый супруг упадет ей в объятия.
Двадцать второго июля Аделаида, которая из окна высматривала почтальона, помчалась вниз к консьержу и вернулась с письмом, на котором стоял штемпель Кале. Луиза выхватила у сестры письмо, сорвала печать и прочитала вслух:
Невыразимая моя Луиза, я отплываю в Англию. Утром сегодня, 19-го числа, меня выпустили на свободу благодаря твоему заступничеству и присланным тобой деньгам; в три часа я навеки покину проклятый французский берег. Не сомневайся в том, что я скоро избавлю тебя от всех твоих тревог. Я надеюсь в ближайшем будущем прижать к груди единственную мою любовь, и в самом скором времени ты получишь деньги, которых хватит на покрытие всех расходов. Твой бесконечно любящий Супруг думает лишь об одном – как обеспечить Счастье своей Ненаглядной Луизы. Ах, каких только мук я не натерпелся из-за тебя; чувства мои невозможно выразить никакими словами. Попытайся простить своего несчастного Супруга. Я напишу по приезде в Лондон и в самом скором времени добуду необходимые средства, дабы прижать к груди единственную мою любовь.
С вечной и искренней любовью, твой муж
Присутствовавшие выслушали ее в молчании; закончив, Луиза перечитала послание про себя. После этого она подняла глаза и посмотрела на мать.
– Видишь, – выговорила она медленно, – он думает только о моем счастье. Через две-три недели он пришлет за мной, и я поеду в Англию.
Мать не ответила. Аделаида встала и тихонько выскользнула за дверь. Луиза так и осталась сидеть с письмом на коленях.
Она знала, что никогда больше не увидит Годфри Уоллеса.
По счастью, именно в этот момент пришло из Лиссабона письмо от Эжени де Палмелла, где говорилось, что в октябре она ждет ребенка и уверена, что не выдержит этого испытания, если рядом не будет ее ненаглядной Луизы. Мадам Уоллес решила незамедлительно отправиться в Португалию. Вдали от Парижа, где все напоминало о ее непутевом муже, она сможет хотя бы в какой-то мере вернуться к нормальной жизни, даровав нежность, которая переполняла ее сердце, Эжени и ее ребенку. Она решила, что сотворит больше добра, если станет служить другим, а не запрется в монастыре, хотя таково и было ее изначальное намерение. «Не распорядись судьба иначе, – писала она своей подруге-герцогине, оповещая о своем приезде, – я могла бы сейчас находиться в том же счастливом положении, что и ты, и мы вместе предвкушали бы будущее материнство. Но быть этому не суждено, я теперь, по сути, вдова. А посему, дорогая Эжени, я хочу воспользоваться этой возможностью и посвятить себя тебе и твоей семье; можешь распоряжаться мною, как тебе будет угодно. Если ты того пожелаешь, я стану нянькой, компаньонкой, гувернанткой и, глядя на то, в каком взаимном согласии живете ты и твой супруг, хотя бы до некоторой степени верну себе то, что утратила». Итак, несчастная брошенная Луиза отправилась в Португалию; романтика ушла из ее жизни навсегда, недолговечное сияние безвозвратно угасло. Ей исполнилось тридцать пять лет, но выглядела она старше. В мягких золотистых волосах зазмеились белые нити, горестные складки легли у губ. Луи-Матюрен, которому было всего на несколько лет меньше, рядом с ней казался мальчишкой. При расставании Луиза поцеловала его с бесконечной нежностью; для нее он по-прежнему был ребенком, а то, что он сыграл не последнюю роль в ее злосчастном браке, стало для них скорее новой связующей нитью, чем преградой.



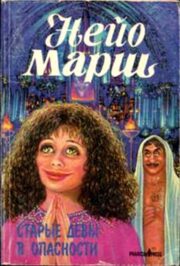


"Берега. Роман о семействе Дюморье" отзывы
Отзывы читателей о книге "Берега. Роман о семействе Дюморье", автор: Дафна дю Морье. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Берега. Роман о семействе Дюморье" друзьям в соцсетях.