– Хотите ли вы уверить нас, что... – начал было Пим.
– Теперь я задаю второй вопрос, – строго прервал его Мун, – Не может ли заседающий в этом зале трибунал осветить одно действительно необычайное обстоятельство. Доктор Пим в своей интересной лекции – кажется, о взаимоотношении полов – заявил, что Смит был рабом страсти к разнообразию, бросающей человека из объятий негритянки в объятия альбиноски, от патагонской великанши к карлице-самоедке. Но имеются ли в данном случае доказательства такого разнообразия? Обнаружены ли следы великанши в прочтенных нами показаниях? Была ли машинистка эскимоской? Подобное красочное обстоятельство, я думаю, не ускользнуло бы от авторов письма. Была ли портниха леди Буллингдон негритянкой? Внутренний голос говорит мне, что нет. Я уверен, что леди Буллингдон сочла бы негритянку, в виду ее демонстративной наружности, чуть ли не социалисткой, и думаю, что даже к альбиноске она отнеслась бы с сомнением.
Но питает ли Смит в действительности такую страсть к разнообразию, как утверждает ученый доктор? Из имеющихся у нас документов можно усмотреть как раз противоположное. Только в одном из опубликованных документов дано точное описание одной из жен подсудимого – краткая, но в высшей степени поэтическая характеристика эстета-каноника: «Ее одежда была цвета весны, а ее волосы как осенние листья». Осенние листья, правда, бывают различных цветов, из коих некоторые положительно неприемлемы в качестве цвета волос (зеленый, например), но всего вероятнее, каноник имел в виду леди с темно-рыжими или рыжими волосами, так как женщины с этим цветом волос любят наряжаться в легкие, изящные зеленые ткани. Что же касается другой жены, то мы знаем, как ее эксцентричный возлюбленный ответил, когда его обозвали ослом: «Ослы любят морковь». Замечание, которое леди Буллингдон, очевидно, считает простым, бессмысленным восклицанием деревенского юродивого, помешанного на еде, может получить, однако, другое, вполне понятное значение, если мы только предположим, что у Молли были рыжие волосы. Говоря о следующей жене, мы видим, что мисс Гридли отмечает то обстоятельство, что вышеупомянутая учительница носила красновато-бурый костюм, очень мило гармонирующий с более ярким цветом ее волос. Иными словами, волосы у девушки были ярче красновато-бурого цвета. Далее, романтически настроенный шарманщик, декламируя свое стихотворение в конторе, так и завяз на следующих словах:
Очи ясные, прекрасные,
Кудри...
Но мне думается, что основательное изучение худших современных поэтов даст нам возможность угадать, что «кудри огненные, красные» или «кудри бронзовые, красные» – были недостающим фрагментом строки, которая была подсказана рифмой «прекрасные». Еще раз, значит, надо предположить, что Смит влюбился в девушку с темно-рыжими или золотисто-рыжими волосами, – пожалуй, – прибавил он, взглянув на конец стола, – нечто вроде цвета волос мисс Грэй.
Сайрус Пим опустил веки и нагнулся вперед, готовый снова выступить с одним из обычных педантических возражений. Но Моисей Гулд с безграничным удивлением приложил вдруг свой указательный палец к носу; какой-то огонек блеснул в его черных глазах.
– Мысль, изложенная мистером Муном, – заметил Пим, – если она верна, ничуть не противоречит нашему взгляду на преступный характер безумия И. Смита, – взгляду, положенному нами в основу обвинения. Наука давно уже считалась с возможностью подобной аберрации. Неизлечимая страсть к физически сходным женщинам есть одно из самых обычных преступных извращений, а если мы отречемся от узкого взгляда на это явление и представим его в свете индукции и эволюции...
– Что касается последнего замечания, – медленно и хладнокровно произнес Майкл Мун, – то я позволю себе облегчить свою душу и поведать вам одно желание, которое мучило меня во время всех наших прений. Я желаю, чтобы индукция и эволюция отправились в тартарары и сварились в своем соку. Недостающее Звено[67] и прочие мудрые вещи хороши для малых ребят; я же говорю лишь о том, что мы знаем. О Недостающем Звене мы знаем только то, что его недостает – и никто никогда его не достанет. Говоря словами старой поговорки, голову вытащил, хвост увяз. Если вы находите человеческие кости, вы заключаете, что покойник жил много лет тому назад; если же вы их не находите, это вам служит указанием, что покойник жил очень, очень давно. Точно такую же игру ведете вы в деле Смита. Так как голова Смита по сравнению с остальным туловищем мала, вы называете его микроцефалом; если б у него была большая голова, вы сказали бы, что у него водянка мозга. Пока вы находили, что у злополучного Смита довольно пестрый гарем, эта пестрота служила вам доказательством его сумасшествия; теперь, когда его гарем становится все более монотонным, монотонность именно и служит вам доказательством его ненормальности. К сожалению, я уже не ребенок и с покорностью переношу все тяготы, связанные с моим возрастом. Поэтому мне будет особенно приятно воспользоваться немногими привилегиями взрослого; и со всей возможной учтивостью я прошу вас не морочить мне голову длинными словами, когда требуются краткие доводы, и не усматривать в каждом вашем промахе нового достижения науки. Теперь, когда я облегчил свою душу, мне остается добавить, что доктор Пим в моих глазах является украшением земли, значительно более ценным, чем Парфенон[68] или монумент на Бейкер-Хилл.
Кончая свою речь, я хотел бы высказать еще одну мысль по поводу многочисленных браков мистера Инносента Смита. Помимо цвета волос есть еще один признак, объединяющий все эти разрозненные эпизоды. Я говорю о фамилии всех этих разнообразных девиц. Вспомните свидетельство мистера Трипа о том, что фамилия переписчицы была, кажется, Блейк. Если это так, мы получим довольно пестрый калейдоскоп имен. Мисс Грин в поместье леди Буллингдон, мисс Браун в Хендонской школе, мисс Блейк в издательской фирме. Радуга красок, кончающаяся мисс Грэй[69] в доме Маяка, в Уэст-Хемпстеде.
Среди гробового молчания Мун продолжал свою речь.
– Что должна означать эта странная игра красок? Я лично нисколько не сомневаюсь в том, что все это – вымышленные имена, играющие, однако, определенную роль в общей схеме задуманной подсудимым шутки. Я думаю, что Молли (или Мэри) называется Грин, когда носит зеленое; она же называется Мэри (или Молли) Грэй, когда надевает серое. Тогда вам станет ясно...
Сайрус Пим побледнел и быстро вскочил с места.
– Вы действительно утверждаете... – вскричал он.
– Да, – сказал Майкл. – Я утверждаю именно это. Много обручений, венчаний и свадеб праздновал Инносент Смит, но у него только одна жена. Час тому назад она сидела здесь, в этом кресле, а сейчас она в саду беседует с мисс Дьюк.
– Да, Инносент Смит основывался в этом деле, так же, как и во всех остальных, на ясном, простом и безукоризненном принципе. Этот принцип кажется в наш век экстравагантным и диким, но какой же простой и безукоризненный принцип не покажется экстравагантным и диким в наш век? Принцип этот можно определить следующими простыми словами: Смит не хочет умирать, пока он жив. То тем, то другим электрическим ударом он желает непрерывно напоминать своему интеллекту, что он все еще живой человек, ходящий по земле на двух ногах. С этой целью он стреляет в своих лучших друзей, с этой целью он устанавливает наружные лестницы и вращающиеся трубы у себя в доме, чтобы ограбить свою собственную квартиру; с этой целью он исколесил всю планету, чтобы снова прийти к себе в дом; с этой целью он всюду берет с собою и оставляет во всевозможных пансионах, учреждениях, школах ту женщину, которой он так неизменно верен и с которой соединяется вновь, устраивая побеги и романтические похищения. Он постоянно, опять и опять похищает свою супругу, но глубоко убежден, что он только тогда сохранит в себе первоначальную веру в ее совершенства, если будет подвергать себя опасности ради нее.
Его мотивы я считаю достаточно ясными; но, может быть, его убеждения не столь ясны. Мне кажется, что во всех чудачествах Инносента Смита есть какая-то общая, связующая их идея. Я отнюдь не утверждаю, что я сам верю в его идею; я просто думаю, что она стоит того, чтобы жить ею и бороться за нее.
Идея, которая руководит Смитом, представляется мне в следующем виде. Живя в цепях цивилизации, мы стали считать дурным многое, что само по себе вовсе не дурно. Мы привыкли хулить всякое проявление веселья, – озорство и дурачество, задор и резвость. Сами же по себе эти явления не только простительны, они безупречны. Нет ничего преступного в том, что человек стреляет из револьвера в своего друга, если он знает наверное, что промахнется. Это не менее невинная забава, чем бросать камушки в море, или даже более невинная, ибо в море вы иногда попадаете. Ничего нет преступного в том, чтобы сдвинуть колпак трубы и ворваться в дом через крышу, если этим вы не угрожаете ни жизни, ни собственности прочих людей. Войти в жилище людей сверху не более преступно, чем открыть свой собственный чемодан из-под спуда. Ничего нет преступного в том, что человек, изъездив земной шар, снова возвращается домой. Это так же невинно, как если бы вы вернулись в свой собственный дом после прогулки в саду. Ничего нет преступного в том, что повсюду человек находит себе жену – сегодня здесь, завтра там, – если эта жена одна-единственная женщина, которой он верен до гроба. Это так же невинно, как играть в прятки в саду. Вы соединяете представление о подобных поступках чуть ли не с понятием грабежа и насилия, но это с вашей стороны просто снобизм. Такой же снобизм проявляете вы, когда смутно ассоциируете что-то беспутное с человеком, идущим в ломбард или в кабак. Вы думаете, что идти туда стыдно и пошло, но вы ошибаетесь.
Все духовные силы этого человека были направлены к тому, чтобы строго разграничить обрядность и веру. Он нарушал обычаи, но заповеди он соблюдал. Он похож на того человека, который предавался бы азартной игре в отвратительном игорном притоне, и вдруг оказалось бы, что он играет не на деньги, а на пуговицы. Вообразите, что вы случайно подслушали, как мужчина назначает на балу в Ковент-Гардене тайное свидание женщине, и вдруг оказывается, что эта женщина – его родная бабушка. Все в его жизни безобразно и дико, все, кроме подлинных фактов. Все в нем дурно, за исключением того, что никогда он не делал дурного.


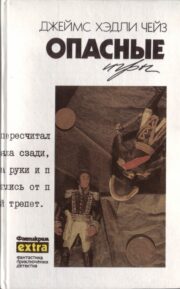

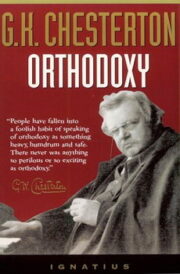
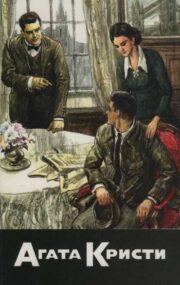
Эта книга Гилберта Кийта Честертона «Жив-человек» произвела на меня глубокое впечатление. Она показывает, как мы можем преодолеть преграды и преодолеть трудности в жизни. Эта история помогает нам понять, что даже в самых тяжелых обстоятельствах мы можем достичь успеха. Она подтверждает, что наша жизнь зависит от нас самих и нашей силы воли. Эта книга помогла мне понять, что мы можем достичь любой цели, если мы достаточно упорны и преодолеваем все препятствия.
Эта книга Гилберта Кийта Честертона «Жив-человек» была для меня по-настоящему вдохновляющей. Она показывает, как мы можем достичь большего, если мы верим в себя и прилагаем максимум усилий. Главный герой проходит через много препятствий и преодолевает их все, получая силу и вдохновение от людей вокруг него. Это прекрасная история о том, как мы можем достичь большего, если мы верим в себя и не боимся преодолевать препятствия. Я рекомендую эту книгу всем, кто ищет вдохновения и мотивации.
Эта книга автора Гилберта Кийта Честертона «Жив-человек» просто потрясает. Она погружает читателя в мир полный приключений и неожиданных поворотов событий. Главный герой проходит длинный путь от невежества до понимания своего предназначения. Эта история открывает глаза на многие важные вещи в жизни, помогает понять и принять себя таким, какой мы есть. Я очень рекомендую эту книгу всем, кто хочет получить мудрость и понять свою судьбу.