— Я не интересуюсь началом жизни. Меня больше интересует ее конец.
Не надо было объяснять, что именно он хотел сказать, так как доктор Макклур заслуженно славился как яростный враг смерти.
Некоторое время было тихо. Казалось, что слова доктора Макклура, человека, постоянно имеющего дело со смертью, источали некие миазмы, заставившие присутствующих замолчать. В докторе было нечто такое, что вызывало в его собеседниках непонятную неловкость. Его вид навевал мысли о карболовой кислоте и белых халатах. Он представлялся верховным жрецом таинственного культа. О нем ходили легенды. Деньги и слава для него ничего не значили, может быть, потому — как об этом зло судачили его завистливые коллеги, — что у него совершенно достаточно было и того и другого.
Почти всех людей он рассматривал просто как насекомых, копошащихся под стеклами микроскопа, как создания, годные только для лабораторных исследований, и, когда они начинали ему надоедать, он просто прихлопывал их своей огромной, волосатой, антисептической лапой.
Это был неопрятный, рассеянный человек. Никто не помнил, носил ли он что-нибудь другое, кроме старого коричневого костюма, неглаженого, с помятыми лацканами и обтрепанными краями, который неряшливо болтался на его плечах.
Это был сильный человек и в то же время усталый, на вид ему нельзя было дать его лет, но тем не менее он производил впечатление по крайней мере столетнего старца.
Любопытный парадокс, но этот человек, который заставлял всех людей чувствовать себя в его присутствии неловкими детьми, сам во всем, кроме своей работы, был сущим ребенком. Он был беспомощный и неловкий и не имел никакого понятия о впечатлении, которое производил на окружающих.
Сейчас он устремил свой взгляд на Карен. Таким взглядом ребенок в минуту опасности смотрит на мать. Он искал у Карен ответа, почему вдруг все замолчали.
— Где Ева, Джон? — быстро нашлась Карен. У нее выработалось шестое чувство, которым она угадывала, когда доктор был в замешательстве.
— Ева? Кажется, я видел ее…
— Я здесь, — отозвалась высокая девушка со ступенек павильона. Но в павильон она не вошла.
— Вот она, — обрадовался доктор Макклур. — Тебе весело, дорогая? Хочешь чаю?..
— Где ты была, милочка? — спросила Карен. — Ты со всеми знакома? Это мистер Квин, кажется, так? Мисс Макклур, а это…
— Мы, вероятно, все уже встречались когда-нибудь, — перебила ее Ева с чуть заметной вежливой улыбкой.
— Нет, мы, например, не встречались, — признался мистер Квин и тотчас встал.
— Папа, опять у тебя галстук съехал к самому уху, — сказала мисс Макклур, совершенно игнорируя мистера Квина и окидывая безразличным взглядом остальных мужчин.
— О, — вздохнула Карен, — просто невозможно заставить его иметь приличный вид!
— У меня все в порядке, — промямлил доктор Макклур, отступая в уголок.
— Вы тоже пишете, мисс Макклур? — полюбопытствовал поэт.
— Я вообще ничего не делаю, — ответила мисс Макклур подчеркнуто любезным тоном. — О, извините, пожалуйста, Карен. Кажется, там…
Она ушла, обескуражив поэта своим поведением. Девушка исчезла среди множества шумных гостей. Японские слуги, нанятые для этого вечера, обносили всех различными заморскими яствами. Но Ева ни к кому не подошла и ни с кем не заговорила, а, сердито нахмурившись, прошла к маленькому мостику в глубине сада.
— Ваша дочь очаровательна, доктор, — пропыхтела русская эмигрантка-писательница. При этих словах тюль яростно заколыхался на ее роскошном бюсте. — Такая пышущая здоровьем девушка!
— Она должна быть такой, — сказал доктор Макклур, поправляя галстук.
— Отличный образец. И надлежащее воспитание.
— Великолепные глаза, — сказал поэт, — хотя, с моей точки зрения, пожалуй, слишком холодные.
— Кому еще чаю? — предложила Карен.
— Доктор, просто удивительно, как вы находите время еще воспитывать дочь, — снова пропыхтела русская леди.
Доктор Макклур посмотрел на поэта и на русскую леди: у обоих были плохие зубы, и, кроме того, доктор очень не любил, чтобы его личные дела обсуждались публично.
— Джон находит время для всего, кроме самого себя, — быстро вмешалась Карен. — Ему уже давно пора отдохнуть. Еще чаю?
— Такое отношение к себе — признак величия натуры, — сказал издатель Карен, обращаясь ко всем присутствующим. — А почему, собственно говоря, вы не поехали в Стокгольм в декабре прошлого года? Только представьте себе: человек пренебрег награждением его международной медицинской премией!
— Нет времени, — пробурчал доктор Макклур.
— О, нет, дело тут не в пренебрежении, — снова вмешалась Карен. — Джон ни к кому на свете не относится с пренебрежением. Он просто беби.
— И именно поэтому вы выходите за него замуж, дорогая? — громко пропыхтела русская леди.
Карен только улыбнулась.
— Еще чаю, мистер Квин?
— О, это так романтично, — провизжала писательница из Новой Англии. — Два лауреата премий, можно сказать, два гения соединяются, чтобы потом, согласно законам наследственности, создать…
— Еще чаю? — спокойно спросила Карен.
Доктор Макклур сердито посмотрел на дам и отошел.
И действительно, жизнь начиналась для доктора только в 53 года. Он никогда не задумывался о своем возрасте, не считал себя ни пожилым человеком, ни юношей. А теперь столь внезапно нахлынувшая юность вызвала у него одновременно чувство радости и раздражения.
Медицинскую награду он мог принять и без нарушения своей размеренной жизни. Ведь поездка за наградой неизбежно означала бы сопутствующие этому досадные процедуры: интервью газетам, приглашения на торжественные медицинские заседания, присуждение почетных степеней. Он с удивительным безразличием отбросил все эти формальности и не поехал в Стокгольм, хотя о присуждении награды ему было известно еще с прошлой осени. Его внимание было полностью посвящено новым научным изысканиям, и месяц май застал его все еще в Нью-Йорке, в его империи — Онкологическом институте.
То, что он неожиданно влюбился в Карен, очень поразило его и вывело из равновесия. Вот уже в течение нескольких месяцев он ведет бесконечные споры сам с собой и из-за этого до сих пор никак не может отделаться от некоторого чувства раздражения. Это чертовски ненаучно: влюбиться в женщину, которую ты знаешь уже более двадцати лет. Он помнил Карен, когда она была еще угрюмым семнадцатилетним подростком, пристававшим к своему терпеливому отцу с бесконечными вопросами о Шекспире. Это было в доме Лейтов в Токио, где на юго-востоке возвышалась Фудзияма, похожая на огромную порцию мороженого.
В то время доктор Макклур был еще молод. В Японию он приехал в поисках материалов для своих исследований в области онкологии. Он потом почти никогда не вспоминал о Карен, разве что в неодобрительных тонах. Вот ее сестра Эстер, это, конечно, совсем другое дело. Он часто думал о ней, об этой слегка прихрамывающей женщине с золотистыми волосами. Земная богиня! Но Карен… С 1918 по 1937 год он ее не видел. Это были годы ее юности. Естественно, когда она, покинув Восток, приехала в Нью-Йорк, он, по сентиментальным соображениям, стал ее врачом. Но сентиментальность — плохая вещь. Казалось бы, то, что он является врачом Карен, должно было отдалить их… должны были установиться чисто профессиональные отношения. Но этого не случилось. Доктор Макклур, бесцельно проходя мимо отдельных групп гостей, развлекавшихся в японском садике, невольно прищелкнул языком. И теперь он должен признаться, что ему, пожалуй, даже нравится это чувство возвратившейся юности. Он взглянул на луну и подумал, что хорошо бы ему остаться наедине с Карен в этом маленьком садике с причудливыми японскими цветами.
2
На маленьком выгнутом мостике, облокотившись на перила, стояла Ева Макклур, устремив вниз пристальный взгляд. Узкая полоска воды была совсем черной, кроме тех мест, куда падал лунный свет.
Здесь все было миниатюрное: маленькие карликовые деревья юмы, сливы с их нежным ароматом. Из-за мостика чуть слышно доносились голоса гостей. Над головой на невидимых проволоках, как миниатюрные аккордеончики, висели маленькие японские фонарики.
Среди азалий, ирисов, глициний, пионов — самых любимых цветов Карен — Ева чувствовала себя как школьница-переросток в стране игрушек.
«Что же все-таки со мной происходит?» — с отчаянием спрашивала она себя, наблюдая, как отблеск лунного света то расширяется, то сужается в потревоженной рыбкой воде.
Вот уже в который раз задает она себе этот вопрос. До последнего времени она чувствовала себя здоровым молодым растением, созревающим под землей. Она не испытывала никаких чувств; ни огорчений, ни удовольствия. Она просто росла.
И доктор Макклур обеспечил ей плодородную почву. Ева росла в райском уголке — в Нантакете, овеваемом солеными ветрами и благоухающем щедрой растительностью.
Доктор посылал ее в лучшие школы. Он обеспечивал ее деньгами, веселым времяпрепровождением, гардеробом, заботой тщательно выбранных служанок. Несмотря на отсутствие матери, ей был обеспечен редкостный домашний уют. Он сделал соответствующую прививку ее морали против всяческой инфекции так же, как обеспечил гигиену ее тела.
Но это были годы формирования, когда Еву не терзали еще никакие эмоции. Она чувствовала, как формируется, — даже растение, вероятно, чувствует свой рост. Подобно всему растущему, она чувствовала, как жизнь все больше и больше вливается в ее тело, производя в нем разительные перемены, формируя ее, наполняя мыслями, слишком зелеными и неосознанными, чтобы быть точно сформулированными; перед ней возникали цели, слишком далекие, чтобы она могла их хорошо разглядеть. Это было очень интересное время. И Ева была тогда счастлива, но только каким-то особым, как бы растительным счастьем.

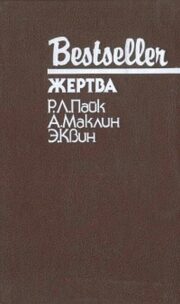

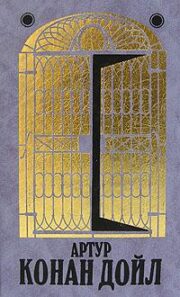

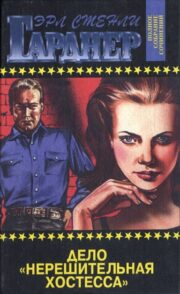
"Жертва" отзывы
Отзывы читателей о книге "Жертва", автор: Алистер Маклин. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Жертва" друзьям в соцсетях.