— А моя старуха мать в своем сельском домике в Ирландии! — сказал я. — Я вижу ее перед собою в шали и кружевном чепце, как она лежит в своем старом кресле у окна, откинувшись на его высокую спинку, закрыв глаза, положив рядом с собою книгу и очки. Зачем мне оплакивать ее?
— Как я уже раньше докладывал, — возразил Челленджер, — всеобщая смерть не так ужасна, как смерть в одиночку.
— Совершенно как на войне, — сказал лорд Джон. — Если бы здесь на полу лежал перед вами только один мертвец, с большой дырой в черепе и вдавленной грудной клеткой, вам жутко было бы смотреть на него. В Судане же я видел десятки тысяч таких трупов, лежавших на спине, и это не произвело на меня никакого особенного впечатления. В ходе истории жизнь отдельного человека значит слишком мало, чтобы о ней беспокоиться. Когда умирают тысячи миллионов, как это случилось сегодня, то нельзя в массе никого особенно выделять.
— Ах, поскорей бы уж конец! — сказала печально миссис Челленджер. — О Джордж, мне так жутко!
— Ты встретишь конец храбрее нас всех, моя женушка. Конечно, я вел себя как старый ворчливый медведь с тобою, но ты должна принять во внимание, что Джордж Эдуард Челленджер таков, каким его создала природа, и он не мог вести себя иначе. Ведь ты не хотела бы другого мужа, не правда ли?
— Никого во всем мире, кроме тебя, дорогой, — сказала она и положила руку на его бычий затылок.
Мы трое отошли к окну и, обомлев от изумления, начали созерцать картину, которая представилась нам.
Надвинулась мгла, и мертвый мир лежал во мраке. Но на южном горизонте простиралась огненная, багровая, довольно длинная полоса, которая то меркла, то вспыхивала снова, начинала гореть самыми яркими красками и опять тускнела.
— Льюис горит! — крикнул я.
— Нет, это Брайтон, — сказал Челленджер, подойдя к нам. — Вы видите, волнистая линия гор возвышается перед заревом: значит, пожар происходит за холмами и раскинулся, вероятно, на много миль. По-видимому, весь город в огне.
В различных направлениях вспыхивали красные огни, а костер на рельсовом пути продолжал пылать, ни это были только светящиеся точки по сравнению с гигантским заревом над холмами. Какую бы об этом корреспонденцию можно было послать в газету! Было ли когда-нибудь столько богатого материала у журналиста и при этом так мало возможности использовать его? Самое потрясающее зрелище — и никого, кто дивился бы ему!
Вдруг на меня нашло увлечение репортера. Если люди науки до последнего мгновения оставались на своих постах, то и я решил не ударить перед ними в грязь лицом и сделать то, что было в моих скромных силах. Никогда, конечно, моей статье не суждено было найти читателя, но длинную ночь надо было как-нибудь скоротать: я, во всяком случае, не мог сомкнуть глаз. Вот почему в настоящее время передо мною лежит записная книжка, страницы которой сплошь исписаны были в ту ночь и которую я держал на коленях в неясном свете одной только электрической лампы. Будь у меня поэтический дар, написанное мною было бы на уровне этого исключительного события. В настоящем же виде своем эти страницы послужат ознакомлению современников со страшными переживаниями и чувствами моими в ту трагическую ночь.
Глава 4. Записная книжка умирающего
Какими странными кажутся мне эти слова на титульном листе моей записной книжки! Но еще более странно то, что их написал я, Эдуард Мелоун, который только каких-нибудь двенадцать часов тому назад вышел из своей квартиры в Стритеме, не предчувствуя, какие поразительные события принесет с собою этот день. Я еще раз перебираю в памяти происшествия, мою беседу с Мак-Ардлом, первое тревожное письмо Челленджера в «Таймсе», сумасшедшую железнодорожную поездку, приятный завтрак, катастрофу, и вот уже дошло теперь до того, что мы одни остались в живых на опустевшей планете. Участь наша так неотвратима, что эти строки, которые я пишу по профессиональной привычке и которых никогда уже не прочтут человеческие глаза, кажутся мне словами умершего. Я стою перед входом в то царство теней, куда уже вошли все находившиеся вне нашего прибежища.
Теперь только я сознаю, как мудро и правильно судил Челленджер, когда говорил, что подлинная трагедия — это все пережить, все прекрасное, доброе, благородное. Но эта опасность нам не угрожает. Уже второй сосуд с кислородом на исходе. Мы можем высчитать с точностью почти до минуты, какой жалкий клочок жизни остался еще у нас в запасе. Только что Челленджер читал нам лекцию добрых четверть часа; он был так взволнован, что ревел на нас и выл, словно обращался в Куинс-Холле к рядам своих старых слушателей, ученых скептиков. У него была удивительная аудитория: его жена, которая послушно говорила «да», не зная, чего он в сущности хочет; Саммерли, сидевший у окна в раздраженном и ворчливом настроении, но слушавший с интересом; лорд Джон, забившийся в угол со скучающим видом, и я, стоявший у окна и наблюдавший эту сцену с непринужденным вниманием человека, который словно видит сон или такие вещи, к которым уже нимало не причастен. Челленджер сидел за столом посреди комнаты, и электрическая лампа освещала зеркальное стекло под микроскопом, который он принес из гардеробной. Яркий свет, отраженный от стекла, резко озарял часть его обветренного бородатого лица, между тем как другая часть погружена была в глубокий мрак. Повидимому, он недавно приступил к работе о низших микроорганизмах, и теперь его крайне волновал тот факт, что он нашел еще в живых амебу, которую днем раньше положил под микроскоп.
— Поглядите вы только, — повторял он взволнованно. — Саммерли, подойдите-ка сюда и убедитесь сами. Пожалуйста, Мелоун, подтвердите мои слова. Маленькие веретенчатые тельца посредине — это диатомеи; на них не стоит обращать внимания, так как это скорее растительные, чем животные существа. Но справа вы видите несомненную амебу, лениво ползущую по освещенному полю. Этот верхний винт служит для установки: вы можете отрегулировать резкость.
Саммерли последовал его указанию и согласился с ним. Я тоже поглядел в трубу и увидел крохотную тварь, похожую на стеклянного паучка и оставлявшую свои липкие следы на освещенном поле.
Лорд отнесся к этому, по-видимому, с совершенным равнодушием.
— К чему ломать мне голову над вопросом, живет ли она или мертва? — сказал он. — Мы ведь не знаем друг друга даже с виду, так не из чего мне особенно тревожиться за нее. Ведь и она не теряет душевного спокойствия из-за нашего самочувствия.
Я невольно рассмеялся, а Челленджер устремил на нас чрезвычайно укоризненный взгляд, взгляд испепеляющий.
— Легкомыслие полузнаек еще порочнее, чем ограниченное упрямство полных невежд, — сказал он. — Если бы лорд Джон соблаговолил снизойти…
— Мой милый Джордж, не будь таким язвительным, — сказала его жена я ласково положила руку на его черную гриву, свисавшую над микроскопом. — Не все ли равно, жива ли амеба, или мертва?
— Нет, от этого зависит очень многое, — ответил сердито ее супруг.
— Так давайте же поговорим об этом, — сказал с веселой улыбкою лорд Джон. — В конце концов об этом ли говорить, или о чем-нибудь другом — все равно, и если вы считаете, что я слишком легкомысленно отнесся к этой твари или, чего доброго, оскорбил ненароком ее чувства, то я охотно готов извиниться.
— Я, со своей стороны, — заметил Саммерли своим трескучим, сварливым гоном, — вообще не понимаю, отчего вы придаете такое значение вопросу, живет ли эта тварь, или не живет. Она ведь окружена тем же воздухом, что и мы, и осталась в живых просто потому, что еще не была подвергнута воздействию яда. Вне этой комнаты она так же умерла бы, как все остальные животные.
— Ваши замечания, мой милый Саммерли, — сказал Челленджер с выражением невероятного превосходства (если бы я мог нарисовать это самоуверенное, высокомерное, ярко освещенное рефлектором микроскопа лицо!), — ваши замечания доказывают, что вы неправильно поняли положение. Этот экземпляр был вчера препарирован и герметически уединен. Наш кислород поэтому не имел к нему доступа. Эфир проник туда так же, как во всякое другое место вселенной. Следовательно, животное устояло против яда. Из этого мы можем сделать далее то заключение, что и вне этой комнаты всякая другая амеба не умерла, как вы ошибочно предположили, а пережила катастрофу.
— Но и в этом случае я не расположен разразиться громовым «ура», — сказал лорд Джон. — Какое же значение имеет для нас этот факт?
— Он доказывает, что мир не умер, как мы предполагали, и что в нем продолжается животная жизнь. Если бы вы обладали научным воображением, то могли бы, исходя из одного этого факта, представить себе мир через несколько миллионов лет, — а такой срок — мгновение в чудовищном потоке времен, — и тогда вы увидели бы мир снова наполненным животными и людьми, обязанными своим возникновением вот этому крохотному ростку. Мы с вами видели степной пожар, который выжег на поверхности земли все следы травы и растений и оставил по себе только обугленную пустыню. Можно было подумать тогда, что такою она пребудет вовеки, но корни растений остались, и если бы вы через несколько лет вновь посетили это место, вы нигде не увидели бы следов пожара. Это микроскопическое создание таит в себе корень роста всей животной жизни, и, вследствие неизменно продолжающейся эволюции, через некоторое время исчезнут все следы переживаемой нами мировой катастрофы.
— Поразительно интересно! — сказал лорд Джон, который, спершись на стол, смотрел в микроскоп. — Забавный карапузик! Номер первый в будущей галерее предков человека. У него на теле красивая большая пуговица.
— Темный предмет — это ядро его клетки, — сказал Челленджер тоном няньки, которая учит азбуке своего питомца.
— Прекрасно! Нам, значит, и беспокоиться не о чем, — рассмеялся лорд Джон. — Кроме нас, кто-то еще живет на свете.

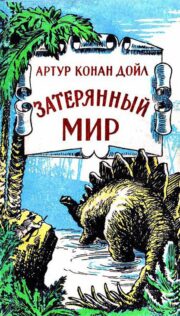
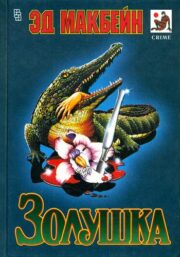


"Затерянный мир (сборник)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Затерянный мир (сборник)", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Затерянный мир (сборник)" друзьям в соцсетях.