Содержимое мешка ясно говорило о том, что Мепл-Уайт был художником и поэтом, отправившимся на поиски новых ярких впечатлений. Там были черновики стихов. Я не считаю себя знатоком в этой области, но мне кажется, что они оставляют желать лучшего. Кроме того, я нашел в мешке довольно посредственные речные пейзажи, ящик с красками, коробку пастельных карандашей, кисти, вот эту изогнутую кость, что лежит на чернильнице, том Бекстера «Мотыльки и бабочки», дешевенький револьвер и несколько патронов к нему. Предметы личного обихода он, по-видимому, растерял за время своих странствований, а может, их у него совсем не было. Никакого другого имущества у этого странного представителя американской богемы в наличии не оказалось.
Я уже собрался уходить, как вдруг заметил, что из кармана его рваной куртки что-то торчит. Это был альбом для этюдов – вот он, перед вами, и такой же потрепанный, как тогда. Можете быть уверены, что с тех пор, как эта реликвия попала мне в руки, я отношусь к ней с не меньшим благоговением, чем относился бы к первоизданию Шекспира. Теперь я вручаю этот альбом вам и прошу вас просмотреть его страницу за страницей и вникнуть в содержание рисунков.
Он закурил сигару, откинулся на спинку стула и, не сводя с моего лица свирепого и вместе с тем испытующего взгляда, стал следить, какое впечатление произведут на меня эти рисунки.
Я открыл альбом, ожидая найти там какие-то откровения – какие, мне и самому было не ясно. Однако первая страница разочаровала меня, ибо на ней был нарисован здоровенный детина в морской куртке, а под рисунком стояла подпись: «Джимми Колвер на борту почтового парохода». Дальше последовало несколько мелких жанровых набросков из жизни индейцев. Потом рисунок, на котором изображался благодушный толстяк духовного звания, в широкополой шляпе, сидевший за столом в обществе очень худого европейца.
Подпись поясняла: «Завтрак у фра Кристофере в Розариу». Следующие страницы были заполнены женскими и детскими головками, а за ними шла подряд целая серия зарисовок животных с такими пояснениями: «Ламантин на песчаной отмели», «Черепахи и черепашьи яйца», «Черный агути под пальмой» – агути оказался весьма похожим на свинью, – и, наконец, следующие две страницы занимали наброски каких-то весьма противных ящеров с длинными носами. Я не знал, что подумать обо всем этом, и обратился за разъяснениями к профессору:
– Это, вероятно, крокодилы?
– Аллигаторы! Аллигаторы! Настоящие крокодилы не водятся в Южной Америке. Различие между тем и другим видом заключается…
– Я только хочу сказать, что не вижу тут ничего особенного – ничего, что могло бы подтвердить ваши слова.
Он ответил мне с безмятежной улыбкой:
– Переверните еще одну страницу.
Но и следующая страница ни в чем не убедила меня. Это был пейзаж, чуть намеченный акварелью, один из тех незаконченных этюдов, которые служат художнику лишь наметкой к будущей, более тщательной, разработке сюжета. Передний план этюда занимали бледно-зеленые перистые растения, поднимавшиеся вверх по откосу, который переходил в линию темно-красных ребристых скал, напоминавших мне чем-то базальтовые формации. На заднем плане эти скалы стояли сплошной стеной. Правее поднимался пирамидальный утес, по-видимому, отделенный от основного кряжа глубокой расщелиной; вершина его была увенчана огромным деревом. Надо всем этим сияло синее тропическое небо. Узкая кромка зелени окаймляла вершины красных скал. На следующей странице я увидел еще один акварельный набросок того же пейзажа, сделанный с более близкого расстояния, так что детали его выступали яснее.
– Ну-с? – сказал профессор.
– Формация действительно очень любопытная, – ответил я, – но мне трудно судить, насколько она исключительна, ведь я не геолог.
– Исключительна? – повторил он. – Да это единственный в своем роде ландшафт! Он кажется невероятным! Такое даже присниться не может! Переверните страницу.
Я перевернул и не мог сдержать возгласа удивления. Со следующей страницы альбома на меня глянуло нечто необычайное. Такое чудовище могло возникнуть только в видениях курильщика опиума или в бреду горячечного больного. Голова у него была птичья, тело как у непомерно раздувшейся ящерицы, волочащийся по земле хвост щетинился острыми иглами, а изогнутая спина была усажена высокими шипами, похожими на петушьи гребешки. Перед этим существом стоял маленький человечек, почти карлик.
– Ну-с, что вы на это скажете? – воскликнул профессор, с торжествующим видом потирая руки.
– Это что-то чудовищное, гротеск какой-то.
– А что заставило художника изобразить подобного зверя?
– Не иначе, как солидная порция джина.
– Лучшего объяснения вы не можете придумать?
– Хорошо, сэр, а как вы сами это объясняете?
– Очень просто: такое животное существует. Совершенно очевидно, что этот рисунок сделан с натуры.
Я не расхохотался только потому, что вовремя вспомнил, как мы колесом прокатились по всему коридору.
– Без сомнения, без сомнения, – сказал я с той угодливостью, на какую обычно не скупятся в разговоре со слабоумными. – Правда, меня несколько смущает эта крошечная человеческая фигурка. Если б здесь был нарисован индеец, можно было бы подумать, что в Америке существует какое-то племя пигмеев, но это европеец, на нем пробковый шлем.
Профессор фыркнул, словно разъяренный буйвол.
– Вы обогащаете меня опытом! – крикнул он. – Границы человеческой тупости гораздо шире, чем я думал! У вас умственный застой! Поразительно!
Эта вспышка была так нелепа, что она меня даже не рассердила. Да и стоило ли впустую тратить нервы? Если уж сердиться на этого человека, так каждую минуту, на каждое его слово. Я ограничился усталой улыбкой.
– Меня поразили размеры этого пигмея, – сказал я.
– Да вы посмотрите! – крикнул профессор, наклоняясь ко мне и тыча волосатым, толстым, как сосиска, пальцем в альбом. – Видите вот растение позади животного? Вы, вероятно, приняли его за одуванчик или брюссельскую капусту, ведь так? Нет, сударь, это южноамериканская пальма, именуемая «слоновой костью», а она достигает пятидесяти – шестидесяти футов в вышину. Неужели вы не соображаете, что человеческая фигура нарисована здесь не зря? Художник не смог бы остаться в живых, встретившись лицом к лицу с таким зверем, уж тут не до рисования. Он изобразил самого себя только для того, чтобы дать понятие о масштабах. Ростом он был… ну, скажем, пяти футов с небольшим. Дерево, как и следует ожидать, в десять раз выше.
– Господи Боже! – воскликнул я. – Значит, вы думаете, что это существо было… Да ведь если подыскивать ему конуру, тогда и вокзал Чаринг-Кросс окажется маловат!
– Это, конечно, преувеличение, но экземпляр действительно крупный, – горделиво сказал профессор.
– Но нельзя же, – воскликнул я, – нельзя же отметать в сторону весь опыт человеческой расы на основании одного рисунка! – Я перелистал оставшиеся страницы и убедился, что в альбоме больше ничего нет. – Один-единственный рисунок какого-то бродяги-художника, который мог сделать его, накурившись гашиша, или в горячечном бреду, или просто в угоду своему больному воображению. Вы, как человек науки, не можете отстаивать такую точку зрения.
Вместо ответа профессор снял какую-то книгу с полки.
– Вот блестящая монография моего талантливого друга Рэя Ланкестера, – сказал он. – Здесь есть одна иллюстрация, которая покажется вам небезынтересной. Ага, вот она. Подпись внизу: «Предполагаемый внешний вид динозавра – стегозавра юрского периода. Задние конечности высотой в два человеческих роста». Ну, что вы теперь скажете?
Он протянул мне открытую книгу. Я взглянул на иллюстрацию и вздрогнул. Между наброском неизвестного художника и этим представителем давно умершего мира, воссозданным воображением ученого, было, несомненно, большое сходство.
– В самом деле поразительно! – сказал я.
– И все-таки вы продолжаете упорствовать?
– Но, может быть, это – простое совпадение или же ваш американец видел когда-нибудь такую картинку и в бреду вспомнил ее.
– Прекрасно, – терпеливо сказал профессор, – пусть будет так. Теперь не откажите в любезности взглянуть на это.
Он протянул мне кость, найденную, по его словам, среди вещей умершего. Она была дюймов шести в длину, толще моего большого пальца, и на конце ее сохранились остатки совершенно высохшего хряща.
– Какому из известных нам животных может принадлежать такая кость? – спросил профессор.
Я тщательно осмотрел ее, призывая на помощь все знания, какие еще не выветрились у меня из головы.
– Это может быть ключица очень рослого человека, – сказал я.
Мой собеседник презрительно замахал руками:
– Ключица человека имеет изогнутую форму, а эта кость совершенно прямая. На ее поверхности есть ложбинка, свидетельствующая о том, что здесь проходило крупное сухожилие. На ключице ничего подобного нет.
– Тогда затрудняюсь вам ответить.
– Не бойтесь выставлять напоказ свое невежество. Я думаю, что среди зоологов Южного Кенсингтона не найдется ни одного, кто смог бы определить эту кость. – Он взял коробочку из-под пилюль и вынул оттуда маленькую косточку величиной с фасоль. – Насколько я могу судить, вот эта косточка соответствует в строении человеческого скелета той, которую вы держите в руке. Теперь вы имеете некоторое представление о размерах животного? Не забудьте и про остатки хряща – они свидетельствуют о том, что это был свежий экземпляр, а не ископаемый. Ну, что вы теперь скажете?
– Может быть, у слона…
Его так и передернуло, словно от боли.
– Довольно! Довольно! Слоны – в Южной Америке! Не смейте и заикаться об этом! Даже в нашей современной начальной школе…
– Ну, хорошо, – перебил я его. – Не слон, так какое-нибудь другое южноамериканское животное, например, тапир.
– Уж поверьте мне, молодой человек, что элементарными познаниями в этой отрасли науки я обладаю. Нельзя даже допустить мысль, что такая кость принадлежит тапиру или какому-нибудь другому животному, известному зоологам. Это кость очень сильного зверя, который существует где-то на земном шаре, но до сих пор неведом науке. Вы все еще сомневаетесь?

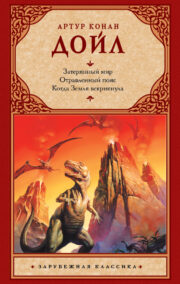



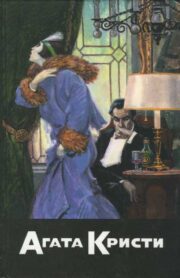
"Затерянный мир. Отравленный пояс. Когда Земля вскрикнула (сборник)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Затерянный мир. Отравленный пояс. Когда Земля вскрикнула (сборник)", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Затерянный мир. Отравленный пояс. Когда Земля вскрикнула (сборник)" друзьям в соцсетях.