— Эй, молодой человек! — воскликнул лорд Джон, удивленно глядя на меня. — Хорошая шутка в это тяжелое время не повредит никому из нас. Чему вы смеетесь?
— Я подумал обо всех тех великих неразрешенных вопросах, — ответил я, — вопросах, которым мы посвятили так много времени, о которых так много размышляли. Например, задумайтесь о соперничестве между Англией и Германией или о Персидском заливе, не дававшем покоя моему старому начальнику. Мог ли кто-нибудь догадаться, как разрешится все то, по поводу чего мы так волновались и беспокоились?
И снова все умолкли. Я полагаю, что каждый из нас думал о друзьях, уже ушедших. Госпожа Челленджер тихо всхлипывала, а ее муж что-то шептал ей. Я думал о знакомых мне людях, которых уже постигла ужасная участь, представлял, как они лежат, бледные и неподвижные, так же как бедняга Остин во дворе. Например, Мак-Ардл: я точно знал, где он сейчас, знал, что его голова покоится на письменном столе, а рука все еще сжимает телефонную трубку — я сам слышал, как он упал замертво. А вот Бомон, наш редактор: могу предположить, что он лежит на сине-красном турецком ковре, украшавшем его кабинет. И все ребята в репортерской комнате — Макдон, Мюррей и Бонд. Уверен, что смерть застигла их за усердной работой, в руках у них были записные книжки, полные ярких впечатлений и необыкновенных происшествий. Догадываюсь, что одного из них отправили к медикам, другого — в Вестминстер[158], а третьего — в собор Святого Павла. Какие же невероятные заголовки они, должно быть, представляли себе в последний момент своей жизни, красивые строчки, коим никогда не суждено воплотиться в печати! Я живо представляю себе Макдона в окружении врачей — «Надежда с Харлей-стрит» — Мак всегда питал слабость к аллитерации. «Интервью с мистером Соли Уилсоном. Знаменитый специалист говорит: „Никогда не сдавайся!“»… «Наш специальный корреспондент застал выдающегося ученого сидящим на крыше, где тот прятался от толпы запуганных пациентов, штурмовавших его дом. С видом человека, отчетливо понимавшего огромную важность происходящего, знаменитый врач отказался признать, что все пути к спасению перекрыты». Так бы начал старина Мак. Еще там был Бонд, он, вероятно, занялся бы собором Святого Павла. Бонд считал, что у него особый стиль. Господи, да это же тема именно для него! «Стоя на маленьком балконе под куполом и глядя вниз на кучку отчаявшихся людей, в этот последний миг своей жизни преклоняющихся перед могуществом Всевышнего, в которое они так настойчиво не хотели верить, я услышал полный мольбы и ужаса тихий стон колышущейся толпы. Это был дрожащий крик о помощи, обращенный к Неведомому…» и так далее.
Да, это был прекрасный конец жизни для репортера, хотя он умер, так и не использовав все свои богатства, как не удастся это сделать и мне. Чего бы только ни отдал бедняга Бонд за то, чтобы увидеть свои инициалы под колонкой вроде этой!
Но что за ерунду я пишу! Впрочем, это всего лишь попытка скоротать медленно тянущееся время. Госпожа Челленджер пошла в гардеробную, и профессор говорит, что она уснула. Сидя за центральным столом, он что-то спокойно записывает и ищет в книгах так, как будто впереди у него годы безмятежной работы. Его перо громко царапает по бумаге, и этот скрип — словно презрительная насмешка над всеми теми, кто с ним не согласен.
Саммерли задремал в кресле и время от времени совершенно невыносимо храпит. Лорд Джон сидит с закрытыми глазами, откинувшись на спинку стула и держа руки в карманах. Как люди могут спать в такой ситуации — это у меня в голове не укладывается.
Полчетвертого утра. Я только что вздрогнул и проснулся. Последнюю запись я сделал в пять минут двенадцатого. Я запомнил это, потому что заводил часы и в этот момент посмотрел на циферблат. То есть я потратил впустую около пяти часов из оставшегося нам времени. Кто бы мог поверить в это? Но я чувствую себя намного бодрее и готов встретить свою смерть — или стараюсь убедить себя в этом. И все-таки, чем больше представляет собой человек, чем мощнее поток его жизни, тем сильнее он должен страшиться смерти. Насколько же мудра и милосердна природа, обычно поднимающая якорь земной жизни человека маленькими, едва ощутимыми рывками, пока сознание не покинет ненадежную мирскую гавань и не отправится в открывающийся перед ним бескрайний океан!
Госпожа Челленджер все еще в гардеробной. Челленджер уснул на стуле. Какая картина! Его большое тело откинулось на спинку стула, огромные волосатые руки сцеплены на груди, а голова наклонена таким образом, что мне не видно ничего над его воротником, кроме спутанной щетки пышной бороды. Он вздрагивает от собственного храпа. К звонкому басу Челленджера добавляется высокий тенор Саммерли. Лорд Джон тоже спит, скрючившись в плетеном кресле. В комнату пробирается первый холодный утренний луч, и все вокруг серо и уныло.
Я смотрю в окно на рассвет — фатальный восход солнца, светящего над безлюдным миром. Человеческая раса исчезла, ее не стало в один день, но планеты продолжают двигаться, приливы чередуются с отливами, так же шепчет ветер, и вся природа, похоже, идет своим путем, вплоть до последней амебы; скоро не останется и следа того, кто называл себя создателем и благословил или проклял эту Вселенную своим присутствием. Внизу, во дворе, лежит Остин, неуклюже раскинув руки, пятно его лица белеет в свете восходящего солнца, в руке у него шланг. Это наполовину смешное и наполовину печальное тело, лежащее рядом с машиной, которой оно когда-то управляло, олицетворяет собой судьбу всего человечества.
На этом заканчиваются записи, сделанные мною в ту ночь. С этого момента события разворачивались слишком быстро и неожиданно, чтобы я успевал делать какие-то заметки; однако в моей памяти все отпечаталось столь отчетливо, что я не упущу ни малейшей подробности.
Начинавшееся удушье, сжимавшее горло, заставило меня взглянуть на баллоны с кислородом, и то, что я увидел, испугало меня. В песочных часах, отсчитывавших оставшееся нам время, высыпался почти весь песок. Ночью Челленджер переключил трубку с третьего на четвертый баллон. Сейчас было видно, что и там кислорода уже почти не осталось. Меня захлестнуло жуткое, угнетающее чувство. Я подскочил к нашему кислороду, открутил трубку и присоединил ее к последнему баллону. Но после я почувствовал угрызения совести, поскольку если бы я удержался от этого, все спокойно умерли бы во сне. Однако мысль эта была прервана криком дамы из внутренней комнаты:
— Джордж, Джордж, я задыхаюсь!
— Все хорошо, миссис Челленджер, — ответил я, когда все вскочили со своих мест. — Я только что открыл кислород.
Но даже в такой момент я не мог сдержать улыбки, глядя на Челленджера, который, протирая глаза большими волосатыми кулаками, был похож на огромного бородатого ребенка, которого только что разбудили. Саммерли дрожал, словно в лихорадке; наступило время, когда человеческий страх, приходящий с осознанием того, что с ним происходит, на миг одержал верх над стоицизмом[159] ученого. Однако лорд Джон оставался столь же хладнокровным и энергичным, будто только что проснулся, чтобы идти на охоту.
— Пятый и последний, — сказал он, глядя на трубку. — Скажите, молодой человек, вы ведь не записывали свои впечатления в этот блокнот?
— Просто несколько заметок, чтобы скоротать время.
— Что ж, не думаю, чтобы кто-то еще, кроме ирландца, был способен на такое. Полагаю, вам, чтобы найти своего читателя, придется дождаться, пока подрастет наша сестрица-амеба. А она, между тем, не очень-то интересуется происходящим. Итак, герр профессор, каковы наши перспективы?
Челленджер смотрел в окно на густой туман, стелящийся по земле. Местами покрытые лесом холмы поднимались из пушистого моря, словно конусы островов.
— Все как будто саваном укрыто, — сказала госпожа Челленджер, выйдя к нам в домашнем халате. — Как там, Джордж, поется в твоей песне — «Звон колокола старое проводит, звон колокола новое зовет». Эти строки оказались пророческими. Но вы, мои дорогие друзья, все дрожите, бедняги. Мне было тепло ночью под покрывалом, а вы мерзли на этих стульях. Ничего, скоро я вас согрею.
Это отважное маленькое создание спешно удалилось, и вскоре мы услышали свист чайника. Затем миссис Челленджер вернулась с пятью чашками горячего какао на подносе.
— Выпейте, — сказала она. — Вам станет намного лучше.
И мы выпили. Саммерли спросил разрешения закурить трубку, тогда как мы все курили сигареты. Думаю, это успокоило наши нервы, но сделали мы это зря, потому что атмосфера в душной комнате стала просто ужасной. Челленджеру пришлось открыть форточку.
— Сколько еще, Челленджер? — спросил лорд Джон.
— Часа три, может быть, — ответил тот, пожимая плечами.
— Раньше мне было страшно, — сказала его жена. — Но чем ближе этот момент, тем спокойнее становится. Тебе не кажется, что нам нужно помолиться, Джордж?
— Помолись, дорогая, если хочешь, — нежно ответил ее большой муж. — Все мы молимся по-разному. Моя молитва заключается в принятии всего, что мне преподносит судьба, — радостном принятии. Высшая религия и высшая наука, похоже, в этом сходятся.
— Я не могу в полной мере охарактеризовать мое отношение как принятие, и уж тем более как радостное принятие, — проворчал Саммерли с трубкой в зубах. — Я покоряюсь, потому что мне приходится это делать. Признаться, я предпочел бы иметь еще один год для того, чтобы закончить классификацию меловых отложений.
— Незавершенность вашей работы — пустяки, — напыщенно сказал Челленджер, — по сравнению с тем, что мое главное произведение, мой magnum opus, «Лестница жизни» остановилось лишь на первых главах. Все мои мысли, все прочитанное мною, весь мой опыт, — это, кстати, мое главное и уникальное оружие, — должны были быть собраны в этой книге эпохального значения. И все же, как я уже сказал, я смирился с этим.

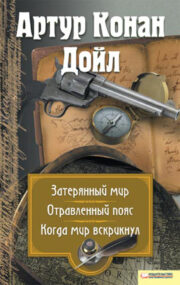

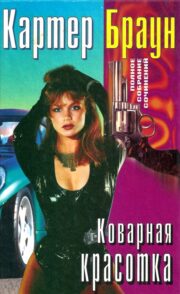

Затерянный мир. Отравленный пояс. Когда мир вскрикнул — это захватывающая история, которая поможет вам понять древние тайны.
Книга Артура Конан Дойла «Затерянный мир. Отравленный пояс. Когда мир вскрикнул» предлагает нам потрясающее приключение и позволяет погрузиться в мир магии и загадок.
Эта книга подарит нам незабываемые впечатления и поможет победить все препятствия на пути к победе.
Книга предлагает нам приключения и захватывающие действия, которые подарят нам массу положительных эмоций.
Книга Артура Конан Дойла «Затерянный мир. Отравленный пояс. Когда мир вскрикнул» предлагает нам потрясающее приключение и помогает понять древние тайны.
Артур Конан Дойл прекрасно передает атмосферу приключений и позволяет читателю почувствовать себя героем книги.
Артур Конан Дойл прекрасно передает атмосферу приключения и позволяет нам погрузиться в мир древних тайн.
Книга Артура Конан Дойла помогает понять, как древние люди жили и какие тайны они хранили.