Глава IV
Дневник умирающего
До чего же странно выглядят эти слова, неразборчиво написанные сверху на пустой странице моей записной книжки! Еще более странным кажется мне то, что написал их я, Эдвард Мэлоун, — человек, который лишь какие-то двенадцать часов назад уехал из своей квартиры в Стритхэме, совершенно не представляя, какие удивительные происшествия принесет этот день! Я вспоминаю всю цепочку событий, мой разговор с Мак-Ардлом, первую тревожную заметку Челленджера в «Таймс», нелепую поездку на поезде, приятный обед, катастрофу, и сейчас вот чем это все закончилось — мы остались одни на пустой планете. Наша приближающаяся смерть столь очевидна, что я смотрю на эти строки, написанные по механической профессиональной привычке, строки, которые никто никогда не увидит, как на слова уже мертвого человека, — настолько близко он находится к той туманной границе, которую все, не вошедшие в наш тесный дружеский круг, уже перешагнули. Теперь я чувствую, сколь мудрыми и правдивыми были слова Челленджера о том, что трагедией было бы, если бы мы пережили все благородное, прекрасное и красивое в этом мире. Но этого точно можно не бояться. Наш второй баллон с кислородом уже подходит к концу. Мы можем подсчитать ничтожно малое время нашей жизни практически до минуты.
Только что минут пятнадцать, не меньше, мы слушали лекцию Челленджера, который был так взволнован, что рвал и метал, будто выступал перед своими старыми научными оппонентами-скептиками в Куинс-Холле. Безусловно, публика на его выступление собралась странная: его жена, всегда уступчивая и совершенно не имеющая представления, о чем он говорит; Саммерли, пристроившийся в тени, ворчливый и критикующий все и вся, но, тем не менее, слушающий с интересом; лорд Джон, вальяжно рассевшийся в углу комнаты и немного заскучавший во время этого действа; и я, сидевший у окна и несколько рассеянно смотревший на происходящее, как будто это был сон или что-то такое, что лично ко мне, так или иначе, отношения не имело. Челленджер сидел за столом в центре комнаты, а перед ним стоял принесенный из гардеробной микроскоп с предметным стеклышком, подсвеченным электрическим фонарем. Маленькое яркое пятно белого света, отражавшегося от зеркальца, освещало половину морщинистого бородатого лица профессора, тогда как вторая половина оставалась в густой тени. Похоже, в последнее время он изучал простейшие формы жизни, и сейчас его взволновало то, что на стекле, подготовленном за день до этого, он обнаружил все еще живую амебу.
— Вы сами можете убедиться в этом, — продолжал повторять Челленджер с большим энтузиазмом. — Саммерли, может быть, вы подойдете сюда и сами удостоверитесь в этом? Мэлоун, вы подтверждаете то, что я говорю? Маленькие веретенообразные существа в центре — это диатомовые водоросли[155], их можно не брать во внимание, поскольку это, видимо, скорее растения, чем животные. Но справа без сомнения находится амеба, медленно передвигающаяся по стеклу. Верхнее колесико вот здесь — это настройка резкости. Посмотрите на это сами.
Саммерли взглянул и молча согласился. Я тоже подошел посмотреть и увидел существо, состоящее, казалось, из перетертого стекла, медленно передвигающееся по светлому полю микроскопа. Лорд Джон готов был поверить Челленджеру на слово.
— Я не хочу забивать себе голову тем, жива амеба или нет, — сказал он. — Мы с этой штукой, насколько я знаю, друг друга ни разу не видели, так почему я стану переживать об этом? Очень сомневаюсь, что оно беспокоится о нашем с вами самочувствии.
Я засмеялся, но Челленджер посмотрел на меня так холодно и надменно, что я тут же осекся.
— Легкомысленность недоучек тормозит науку сильнее, чем глупость полных невежд, — авторитетно заявил он. — Если бы лорд Джон Рокстон снизошел до…
— Мой дорогой Джордж, не будь столь язвительным, — сказала его жена, придерживая рукой свои черные волосы, нависающие над микроскопом. — Какая разница, жива эта амеба или нет?
— Разница огромная, — резко ответил Челленджер.
— Хорошо, давайте послушаем, — сказал лорд Джон с добродушной улыбкой. — Эта тема не хуже любой другой. Если вы считаете, что я был слишком бесцеремонным с этим существом или каким-либо образом мог оскорбить его чувства, спешу принести свои извинения.
— Что же до меня, — скрипучим голосом вставил любитель поспорить Саммерли, — то я не понимаю, почему столько внимания уделяется тому, что это существо живо. Оно находится в таком же воздухе, как и мы с вами, поэтому естественно, что яд на него не действует. Если бы оно находилось за пределами этой комнаты, оно бы погибло, как и все другие проявления животной жизни.
— Ваши замечания, мой дорогой Саммерли, — сказал Челленджер тоном огромного снисхождения (о, если бы я только мог описать это властное, высокомерное выражение лица в ярком свете, отражающемся от зеркальца микроскопа!), — свидетельствуют о том, что вы неверно оцениваете ситуацию. Этот образец был взят для анализа вчера и был герметично закрыт. Кислород к нему поступать не мог. Но эфир, разумеется, влиял на него так же, как и на все во Вселенной. Таким образом, получается, что яд на амебу не подействовал. Следовательно, мы можем утверждать, что и все другие амебы за пределами этой комнаты не погибли, как вы ошибочно считаете, а сумели пережить катастрофу.
— Что ж, даже после этого я не стану прыгать от радости, — сказал лорд Джон. — Какое это имеет значение?
— Это имеет только то значение, что мир жив, а не мертв. Если бы вы обладали истинно научным воображением, ваша мысль, оттолкнувшись от одного этого факта, пошла бы дальше, и вы бы увидели, как через какие-нибудь несколько миллионов лет — всего лишь миг в огромном потоке веков — весь мир снова наполнится животными и людьми, жизнь которых произрастет из этого крошечного семени. Вы видели пожары в прериях, не оставившие на земле ни следа от травы или растений, — лишь черную обугленную пустыню. Вы могли бы подумать, что она навсегда останется такой. Однако корни растений остались в земле, и уже через несколько лет вы не сможете указать место, где раньше были лишь черные шрамы. Здесь, в этом крошечном существе, корни жизни всего животного мира, и благодаря его природному развитию и эволюции оно, безусловно, со временем не оставит и следа от этого страшного кризиса, свидетелями которого мы с вами сейчас являемся.
— Чертовски интересно! — сказал лорд Джон, лениво наклоняясь к микроскопу. — Забавный малыш, его портрет будет первым в будущей семейной галерее всего живого. А какая у него на рубашке красивая большая запонка!
— Темное пятно — это его ядро, — сказал Челленджер с видом учителя, терпеливо объясняющего детям азбуку.
— Ну что ж, теперь мы не будем чувствовать себя одинокими, — со смехом произнес лорд Джон. — Не мы одни остались в живых.
— Кажется, вы, Челленджер, считаете само собой разумеющимся, — сказал Саммерли, — что цель создания этого мира — производить и поддерживать человеческую жизнь.
— Ну, сэр, а как бы вы определили эту цель? — спросил Челленджер, взрываясь при малейшем намеке на противоречие.
— Иногда я думаю, что только огромная заносчивость заставляет людей думать, что вся эта великая сцена была возведена исключительно для того, чтобы им было, где покрасоваться.
— Мы не можем столь безапелляционно рассуждать об этом, но, по крайней мере, без того, что вы назвали огромной заносчивостью, мы можем уверенно назвать себя высшим звеном развития.
— Высшим среди нам известных.
— Да, сэр, само собой разумеется.
— Задумайтесь о миллионах или даже триллионах лет, когда необитаемая земля пролетала сквозь космос, — или, если и не необитаемая, то, по крайней мере, без признаков человеческой жизни. Поразмыслите об этом: бесчисленное количество веков ее омывали дожди, палило солнце, обдували ветра. С точки зрения геологии, человек появился на Земле только вчера. Тогда почему же нужно безоговорочно принимать за данность то, что вся эта колоссальная подготовка была проделана только ради него?
— А для кого же тогда? Или для чего?
Саммерли пожал плечами.
— Откуда нам знать? Ради какого-то неведомого нам замысла — а человек появился лишь случайно, как побочный продукт этого процесса. Рассуждая подобным образом, вы напоминаете пену на поверхности океана, которая сочла, что океан был создан для того, чтобы появилась и существовала она, или церковную мышь полагающую, что это здание возведено именно для нее.
Я старался записывать каждое их слово, но вскоре обмен репликами стал перерастать в обычный шумный спор, пестрящий сложными научными терминами. Несомненно, это большая честь слушать, как такие умы спорят о высоком; но поскольку им никак не удавалось найти общий язык, то простые люди, — такие как мы с лордом Джоном, — не могли почерпнуть для себя из этого представления ровным счетом ничего. Они пытались нейтрализовать друг друга, а мы остались предоставлены сами себе и уже мало что понимали. Наконец шум смолк, Саммерли вжался в свое кресло, тогда как Челленджер продолжал сидеть у микроскопа, крутить колесико и медленно, тихо и невнятно ворчать, словно море после шторма. Ко мне подошел лорд Джон, и мы вместе стали вглядываться в темноту ночи.
В черном небе висела бледная молодая луна — последняя, которую увидит человек, — и очень яркие звезды. Даже в чистом воздухе на плато в Южной Америке я никогда не видел таких. Возможно, изменения эфира каким-то образом повлияли на их свет. Погребальный костер Брайтона все еще пылал, а вдалеке, в небе на западе виднелось другое алое зарево, которое, видимо, свидетельствовало о подобном пожаре в Эранделе или Чичестере[156], а может, даже в Портсмуте[157]. Я сидел, размышляя и изредка делая кое-какие заметки. Воздух был наполнен сладкой меланхолией. Юность, красота, благородство, любовь — неужели этому всему наступил конец? Залитая звездным светом Земля казалась миром грез, полным мягкого спокойствия. Кто бы мог подумать, что однажды она превратится в Голгофу, усеянную человеческими телами? И вдруг я заметил, что смеюсь.

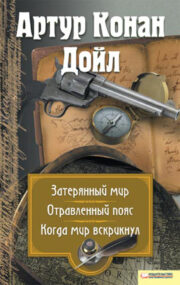
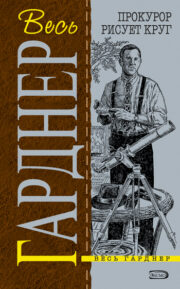
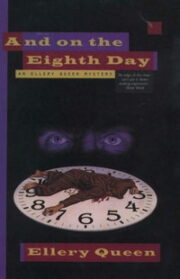


Затерянный мир. Отравленный пояс. Когда мир вскрикнул — это захватывающая история, которая поможет вам понять древние тайны.
Книга Артура Конан Дойла «Затерянный мир. Отравленный пояс. Когда мир вскрикнул» предлагает нам потрясающее приключение и позволяет погрузиться в мир магии и загадок.
Эта книга подарит нам незабываемые впечатления и поможет победить все препятствия на пути к победе.
Книга предлагает нам приключения и захватывающие действия, которые подарят нам массу положительных эмоций.
Книга Артура Конан Дойла «Затерянный мир. Отравленный пояс. Когда мир вскрикнул» предлагает нам потрясающее приключение и помогает понять древние тайны.
Артур Конан Дойл прекрасно передает атмосферу приключений и позволяет читателю почувствовать себя героем книги.
Артур Конан Дойл прекрасно передает атмосферу приключения и позволяет нам погрузиться в мир древних тайн.
Книга Артура Конан Дойла помогает понять, как древние люди жили и какие тайны они хранили.