«Спрос на дичь быстро растет. Выслежена партия фазанов. Хадсон уполномочен на все. Про векселя сказал кому следует. Беги к Смиту. Спасая фазаньим самкам жизнь, получишь барыш».
Я прочел записку и взглянул на Холмса, ничего не понимая. По выражению его лица я увидел, что он любуется моим недоумением.
– Вы, кажется, удивлены? – спросил он.
– Я только совершенно не могу понять, каким образом это послание могло внушить такой сильный ужас. По моему мнению, эта записка просто смешна.
– Да, и все-таки результат был таким, что прочтя эту записку, сильный и здоровый старик умер так внезапно, как если бы его кто застрелил из револьвера.
– Вы возбуждаете мое любопытство, – сказал я. – И, очевидно, вы придаете очень большое значение этому делу, если заговорили о нем со мной?
– Да, потому что это дело было первое, которое я распутывал.
Я неоднократно старался уже вызвать на откровенность моего друга и расспросить, что именно было поводом того, что он избрал карьеру сыщика, но мне это не удавалось. Теперь же он сам уселся в кресло, закурил свою трубку и, разложив бумаги на коленях, принялся перебирать их одну за другой.
– Вы еще не слышали от меня ничего про Виктора Тревора? – начал он. – Он был моим единственным другом во время моего пребывания в колледже. Вы знаете, Ватсон, что я вообще малообщителен. Также и тогда я более любил сидеть дома один со своими мыслями, нежели ходить в гости к товарищам. Фехтование и бокс еще сближали меня с ними, но во всем остальном я совершенно отличался от них, и между нами было очень мало точек соприкосновения. Тревор был единственный из них, которого я знал, да и то благодаря только тому обстоятельству, что в одно прекрасное утро, когда я шел в часовню, его терьер укусил меня за ногу. Я согласен, что этот способ знакомства мало приятен, но зато действен.
Я тогда пролежал в постели десять дней, и Тревор навещал меня. Сначала он приходил не более как на минутку, затем его визиты начали затягиваться, и в конце концов мы с ним подружились самым настоящим образом. Он был сильный, здоровый парень, веселого характера и очень общительный, представляя этим полную противоположность мне. Но было у нас и нечто общее. Более всего нас сблизило то, что он точно так же, как и я, не имел друзей. Однажды во время вакаций[1] он пригласил меня погостить к своему отцу, который жил около Донниторпа, в Норфолке, и я с удовольствием принял это приглашение, рассчитывая пробыть там месяц.
Старик Тревор, очевидно, был состоятельный человек, мировой судья и землевладелец. Донниторп – небольшая деревушка к северу от Лангмера – расположен в открытой местности. Дом его был старинный, удобный. Выстроен он был из кирпича и обсажен дубами. От крыльца шла прекрасная липовая аллея. В имении были прекрасные места для охоты на диких уток, в доме был хороший повар и небольшая, но тщательно составленная библиотека, как я думаю, оставшаяся после прежнего владельца этого имения. Одним словом, нужно было быть большим придирой, чтобы не провести там приятно месяц.
Тревор-старший был вдов, и мой друг был его единственным сыном. Была у него и дочь, но она умерла, кажется, от дифтерита, во время своей поездки в Бирмингем. Отец моего друга чрезвычайно заинтересовал меня. Он был не очень образован, но зато имел сильный дух и здоровое тело. Он едва ли читал когда-либо книги, но много видел, много путешествовал и обладал удивительной памятью, помнил все, чему учился когда-либо. С виду он был небольшого роста, коренастый, с широкими плечами. Волосы на его голове были с сильной проседью, лицо загорелое, а голубые глаза смотрели остро и проницательно. В своем округе он пользовался репутацией человека почтенного, доброго, щедрого и всеми уважаемого. Между прочим, в качестве мирового судьи он выносил всегда очень мягкие приговоры.
Однажды, вскоре после моего приезда, мы сидели после обеда за портвейном и разговаривали. Молодой Тревор начал говорить о моей способности к наблюдениям, которую я уже тогда привел в целую систему, систему, которой впоследствии суждено было сыграть важную роль в моей жизни. Старый джентльмен, очевидно, подумал, что сын преувеличивает описание моих талантов, когда тот ему рассказал несколько ничтожных случаев, свидетелем которых он сам был.
– Слушайте, мистер Холмс, – весело сказал он, – я сам представляю великолепный пример для ваших дедуктивных умозаключений.
– Едва ли мне придется угадать многое. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что за последние двенадцать месяцев вы боитесь подвергнуться нападению.
Улыбка исчезла с его губ, и он посмотрел на меня с величайшим изумлением.
– Это правда. Помнишь ли, Виктор, – продолжал он, обращаясь к своему сыну, – ведь мы в прошлом году изловили целую шайку контрабандистов, и они пригрозили убить нас за это. На мистера Эдуарда Холли они действительно напали. С тех пор я принимаю некоторые меры предосторожности, хотя совершенно не понимаю, каким образом вы могли узнать это?
– У вас очень хорошая палка, – ответил я, – я заключил по надписи на палке, что вы купили ее не более как с год тому назад. С другой стороны, я заметил, что ручка отвинчивается и что палка залита внутри свинцом. В таком виде она представляет страшное оружие. Я и заключаю, что если вы принимаете такие меры предосторожности, то только потому, что боитесь какого-нибудь внезапного нападения.
– Ну, что-нибудь еще? – улыбнулся он.
– Вы много занимались боксом, когда были еще молоды.
– Правда. Как вы узнали это? Или мой нос потерял вследствие этого спорта свою первоначальную форму?
– Нет, – сказал я. – Это видно по вашим ушам. На них видны характерные утолщения, которые характеризуют только боксеров.
– Еще что-нибудь?
– Вы много занимались физическим трудом. Это можно видеть по мозолям на ваших руках.
– Все заработанные деньги я добыл на рудниках.
– Вы были в Новой Зеландии.
– Да, правда.
– Вы посетили Японию.
– Совершенно верно.
– И находились в тесной дружбе с человеком, инициалы которого Д. Э. Но впоследствии вы старались позабыть этого человека.
Мистер Тревор встал с места и уставился на меня своими большими глазами, принявшими какое-то странное, дикое выражение. Затем он побледнел и лишился чувств, уткнув лицо в скатерть, усеянную ореховой скорлупой.
Вы можете себе представить, Ватсон, до чего мы оба перепугались. Но обморок не был продолжителен; мы подняли его, расстегнули воротник, спрыснули ему лицо холодной водой, и он скоро очнулся.
– Ах, детки! – сказал он, стараясь улыбнуться. – Надеюсь, что я не слишком перепугал вас. Но, видите ли, у меня порок сердца, и я подвержен довольно частым обморокам. Я не знаю, как вы это делаете, мистер Холмс, но по-моему, все профессиональные сыщики, если их сравнить с вами, кажутся маленькими детьми. Это – ваше жизненное призвание, сэр, следуйте ему; верьте старому человеку, который много перевидал на своем веку.
И эти его слова, в которых звучала несколько преувеличенная оценка моих талантов, в первый раз, вы можете мне в этом верить, Ватсон, навели меня на мысль обратить в профессию занятия, которым я до этого времени предавался из любви к искусству. Но в эту минуту я был гораздо более озабочен болезнью моего хозяина и не думал ни о чем другом.
– Надеюсь, что я не сказал ничего, что могло бы опечалить вас? – спросил я.
– Вы действительно затронули мое больное место. Могу ли я спросить, что именно и в какой степени вы знаете?
Он спросил это как будто в шутку и старался казаться спокойным, но в глазах его виднелся прежний дикий ужас.
– Это очень просто, – ответила. – Когда вы обнажили руку, втаскивая в лодку рыбу, я успел заметить на ней инициалы Д. Э. Эти буквы все еще можно было разобрать, несмотря на то, что они были покрыты синими шрамами, доказывающими, что буквы старались вытравить. Следовательно, можно вывести из этого такое заключение: раньше инициалы были дороги вам, а впоследствии вы захотели забыть их и старались избавиться от них.
– Какие глаза у вас, однако! – воскликнул он с облегчением. – Все то, что вы сейчас сказали, – верно. Но не будем говорить об этом. Изо всех привидений самые худшие – призраки нашей былой любви. Пойдемте лучше в бильярдную и выкурим там по сигаре. С этого дня мистер Тревор относился ко мне по-прежнему любезно, но в его обращении сквозила явная подозрительность. Даже его сын заметил это.
– Ты до такой степени напугал отца, – сказал он, – что он мучается постоянными сомнениями относительно того, что тебе известно, а что нет.
Я уверен, что старый джентльмен старался скрывать свои чувства, но они так и сквозили во всех его поступках. И я решил сократить свое пребывание у него, так как заметил, что мое присутствие становится ему в тягость. Но в самый день моего отъезда произошел случай, которому суждено было повлиять на будущие события. Мы сидели в саду на садовых стульях, грелись на солнце и любовались открывающимся перед нами видом.
Вдруг к нам подошла служанка и доложила, что какой-то человек желает видеть мистера Тревора.
– Как его зовут? – спросил хозяин.
– Он не говорит своего имени.
– Что ему от меня нужно?
– Он говорит, что вы знаете его и что он должен вам сказать только два слова.
– Пусть он придет сюда.
Через минуту человек маленького роста появился перед нами. Он шел какой-то раскачивающейся странной походкой. Его пиджак, с запачканными дегтем рукавами, был расстегнут, и из-под него виднелась полосатая, черная с красным, рубашка. Кожаные брюки и сильно истоптанные башмаки довершали наряд. На его худом, хитром и загорелом лице как бы застыла злая улыбка, показывающая ряд неровных желтых зубов. Его корявые руки были сжаты жестом, отличающим моряков. Когда он еще только подходил к нам, я услышал, как мистер Тревор издал какой-то задушенный звук, затем быстро вскочил со стула и бросился к дому. Через минуту он снова вернулся к нам. Когда он проходил мимо меня, я почувствовал сильный запах бренди.



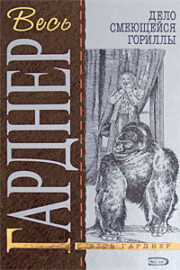

Захватывающая история!
Прекрасное путешествие в прошлое!
Незабываемое прочтение!
Отличное прочтение!
Отличное произведение!
Великолепное произведение Артура Конан Дойла!
Великолепное погружение в мир Шерлока Холмса!
Невероятно захватывающее чтение!
Захватывающее чтение!
Очень интересно!