– Вы правы, Ватсон, – сказал он, – это, действительно, чрезвычайно нелепая манера решать спор.
– Поистине нелепая! – ответил я, но вдруг сообразил: каким образом мог он проникнуть в глубину моей души и так верно угадать мои мысли? Я выпрямился на стуле и с явным недоумением смотрел на него во все глаза.
– Что это значит, Холмс? – воскликнул я. – Как могли вы так верно угадать мои мысли?
Тот от души расхохотался.
– Помните, – сказал он, – несколько дней тому назад, когда я прочел рассказ Эдгара По, в котором один тонкий наблюдатель читал мысли другого человека, вы не поверили этому и назвали этот рассказ плодом буйной фантазии и ловкий ход автора. Когда же я стал уверять вас, что сам в состоянии угадывать чужие мысли, вы не поверили мне и скептически отнеслись к моему заявлению.
– О, нет!
– Вы ничего мне не ответили, но я узнал об этом по вашим глазам. Поэтому, когда вы отложили газету и задумались, я страшно обрадовался возможности прочитать ваши мысли и, как видите, все время следил за вашими думами.
– В этом рассказе, – возразил я, – наблюдатель выводит свои заключения по действиям человека, за которым он следит. Если я не ошибаюсь, он спотыкался о камни, смотрел на звезды и т. д. Но я совершенно спокойно сидел в кресле, так что положительно не понимаю, каким образом вы могли прочесть мои мысли.
– Вы не правы. Выражение лица человека служит верным отпечатком его души. Мы все пользуемся чертами лица для выражения своих чувств, и в данном случае вы тоже пользовались ими, как своими верными слугами.
– Стало быть, вы проследили за ходом моих мыслей по моему выражению лица?
– Не столько по выражению лица, сколько по выражению глаз. Ручаюсь, что вы не в состоянии сказать мне, с какого момента вы начали думать.
– Действительно, не могу.
– Ну, в таком случае я вам скажу. Отложив в сторону газету, чем привлекли мое внимание: вы удобнее уселись в кресле и с полминуты ни о чем не думали. Затем ваш взор остановился на портрете генерала Гордона в новой рамке, и тут по выражению вашего лица я заключил, что вы начали думать. Затем вы стали смотреть на стоящий наверху этажерки с книгами портрет Генри Уорда Бичера, который еще не был вставлен в рамку. Тут уже ваша мысль стала совсем очевидна. Вы посмотрели на стену, увидели пустое место и подумали, что надо вставить этот портрет в рамку и повесить здесь, симметрично с портретом генерала Гордона.
– До сих пор вы поразительно угадали мои мысли.
– Здесь ваши мысли приняли другое направление. Вы опять взглянули на Бичера и стали в него пристально всматриваться, очевидно, вспоминая нравственные качества и характер этого человека. Затем ваши глаза перестали щуриться, но вы продолжали смотреть, и ваше лицо приняло сосредоточенное выражение. В вашем уме проносились отдельные моменты карьеры Бичера. Я убежден, что вы не можете думать о нем, не вспомнив миссии, которую он исполнял во время гражданской войны, имея в виду пользу и благосостояние Севера. В то время это поручение так задело вас за живое, что вы не могли думать о Бичере, не вспомнив об этом факте. Когда минуту спустя вы отвели свой взор от портрета, я заподозрил, что вы начинаете думать про гражданскую войну, в чем я скоро и убедился, когда увидел, как шевелятся ваши губы, как заблестел ваш взор и как сильно сжимались руки. Вы думали о храбрости и отваге, проявленной с обеих сторон в этой отчаянной борьбе. Но затем ваше лицо сделалось скучнее, и вы покачали головой. Вы не могли вспомнить без ужаса и содрогания о бесполезной гибели стольких человеческих жизней. Таким образом вы растравили свою старую сердечную рану, о чем свидетельствовала горькая усмешка на ваших губах. Вас возмущало, как могут люди применять такой глупый, нелепый метод в разрешении великих международных вопросов. В этом я вполне согласен с вами, и потому высказал свое одобрение вслух; в общем же я страшно доволен, что мои наблюдения оказались верными.
– Совершенно верными, – сказал я, – и теперь, хотя вы мне объяснили свой фокус, я все-таки остаюсь по-прежнему поражен и удивлен вашей поразительной наблюдательностью.
– Уверяю вас, Ватсон, что ничего не может быть проще этого. Я бы не стал тратить на это время, если бы вы накануне не выразили такого недоверия к рассказу талантливого писателя. Но день клонится к вечеру. Не хотите ли прогуляться по городу?
Наша маленькая квартира надоела мне, и потому я с радостью принял предложение друга. В продолжение трех часов гуляли мы вместе, наблюдая вечно меняющийся калейдоскоп жизни, вращающийся, подобно приливу и отливу, между Флит-стрит и Стрэндом. Характерная болтовня Холмса с его тонкой наблюдательностью мельчайших подробностей и поразительная уверенность, с которой он делал свои выводы, занимала и в то же время порабощала меня.
Только в десять часов вечера мы вернулись на Бейкер-стрит. У подъезда нашего дома стояла карета.
– Гм! Это докторская карета. Ее хозяин недавно практикует, но имеет большой успех. Должно быть, он приехал к нам за советом. Хорошо, что мы вернулись! – тотчас же вывел свое заключение Холмс.
Я слишком хорошо был знаком с методом моего друга, чтобы хоть на минуту усомниться в правильности его наблюдений; внутри кареты на крючке висела плетеная корзинка с докторскими принадлежностями, которая и дала ему данные для его быстрого вывода. Свет наверху, в нашем окне, доказывал, что этот посетитель приехал к нам, а не к кому-нибудь другому. Мне было ужасно интересно узнать, какое такое дело могло привести к нам в этот час собрата-медика, и потому я поскорее последовал за Холмсом в нашу «святая святых».
Когда мы вошли в комнату, со стула у камина поднялся белокурый молодой человек с бледным конусообразным лицом. На вид ему можно было дать не больше тридцати трех – тридцати четырех лет, но его угрюмое выражение лица и нездоровый вид свидетельствовали о том, что не совсем благоприятно складывающаяся для него жизнь подорвала его молодые силы и преждевременно похитила его свежесть. Его манеры были нервны и беспокойны, а его тонкая белая рука, которой он, вставая со стула, взялся за край камина, была похожа скорее на руку художника, чем на руку хирурга. Одет был он в темное платье – черный сюртук, черные брюки и такой же скромный темный галстук.
– Добрый вечер, доктор, – сказал любезно Холмс, – очень рад, что вам пришлось нас ждать не больше пяти минут.
– Вы говорили с моим кучером?
– Нет, я узнал это по свечке, которая не успела еще даже хорошо разгореться. Пожалуйста, садитесь. Чем могу вам служить?
– Позвольте вам представиться, – сказал посетитель, – доктор Перси Тревельян, мой адрес Брук-стрит, дом № 403.
– А, это вы автор монографии о малоизвестных нервных болезнях? – спросил я.
Когда доктор услыхал, что его сочинение известно мне, его бледные щеки покрылись легким румянцем.
– Мне очень редко приходится слышать о своем сочинении, я был в полной уверенности, что его никто не читал, а мои издатели никогда мне не дают никакого отчета о том, как расходятся мои книги. Скажите, пожалуйста, вы, верно, тоже доктор?
– Да, отставной военный врач.
– Я всегда с особенной любовью изучал нервные болезни и даже хотел избрать их своей специальностью, но обстоятельства так сложились, что мне не удалось привести в исполнение свое намерение. Но это не относится к делу. Простите, что задержал вас, мистер Холмс, я знаю, как дорога для вас каждая минута. Все это время у меня в доме на Брук-стрит происходили странные явления, но я до сегодняшнего вечера не придавал им большого значения; наконец дело стало принимать такой серьезный оборот, что ждать оказалось немыслимо, и потому я приехал к вам просить вашего совета и содействия.
Шерлок Холмс сел и закурил трубку.
– С удовольствием сделаю все, что могу. Пожалуйста, расскажите мне подробно, в чем дело.
– Видите ли, – сказал доктор, – во всей этой странной истории есть два или три факта, на которые положительно не стоит обращать внимания, но так как, по моему мнению, все они имеют общую связь, то не могу не рассказать вам про них по порядку.
Придется начать рассказ с того времени, когда я был еще студентом. Я поступил в Лондонский университет и скоро обратил на себя внимание профессоров, которые сулили мне блестящую будущность. Окончив университет, я принялся за научные исследования, занимая в то же время небольшую должность в клинике при Кингз-Колледж. Случайно мне удалось сделать несколько довольно интересных открытий в лечении каталепсии, за что я и удостоился премии Брюса Пинкертона и получил медаль за упомянутую монографию о нервных болезнях. Не знаю почему, но у всех сложилось мнение, что я составлю себе блестящую карьеру.
И я, действительно, благодаря этому скоро приобрел бы известность, если бы не один камень преткновения, а именно – недостаток в деньгах. Вы отлично понимаете, что специалист, желающий приобрести известность, должен обязательно жить где-нибудь в районе Кавендиш-сквера и нанимать хорошую квартиру с приличной обстановкой, а все это стоит больших денег. Мало того, известность приобретается с годами, а до тех пор надо иметь капитал, на
который можно было бы существовать, пока не пройдет этот самый тяжелый выжидательный период. Затем всякий мало-мальски известный доктор должен иметь свою карету и лошадь, а мои средства были очень ограниченны. Чтобы прибить на своих дверях металлическую доску, мне пришлось бы, усиленно работая, провести по крайней мере десять лет скромной и экономной жизни. Но обстоятельства сразу изменились совершенно неожиданным и странным для меня путем.
Как-то приехал ко мне совершенно незнакомый господин по фамилии Блессингтон. Войдя в комнату, он сразу приступил к делу.
– Вы тот самый мистер Тревельян, которому все сулят блестящую карьеру и который со временем будет зарабатывать огромные деньги? – спросил он. Я поклонился. – Ответьте мне откровенно, желаете ли вы получить капитал, при помощи которого могли бы сейчас осуществить свои мечты? Вы обладаете достаточным умом, чтобы вести успешно дело. Обладаете ли вы в равной степени тактом?


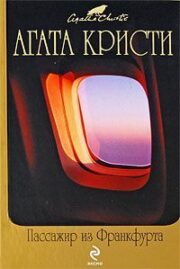



Захватывающая история!
Прекрасное путешествие в прошлое!
Незабываемое прочтение!
Отличное прочтение!
Отличное произведение!
Великолепное произведение Артура Конан Дойла!
Великолепное погружение в мир Шерлока Холмса!
Невероятно захватывающее чтение!
Захватывающее чтение!
Очень интересно!