Спустившись вниз, я еще раз оглянутся. С этого места водопад уже не был виден, но я разглядел ведущую к нему дорожку, которая вилась вдоль уступа горы. По этой дорожке быстро шагал какой-то человек. Его черный силуэт отчетливо выделялся на зеленом фоне. Я заметил его, заметил необыкновенную быстроту, с какой он поднимался, но я и сам очень спешил к моей больной, а потому вскоре забыл о нем.
Примерно через час я добрался до нашей гостиницы в Мейрингене. Старик Штайлер стоял на дороге.
— Ну что? — спросил я, подбегая к нему. — Надеюсь, ей не хуже?
На лице у него выразилось удивление, брови поднялись. Сердце у меня так и оборвалось.
— Значит, не вы писали это? — спросил я, вынув из кармана письмо. — В гостинице нет больной англичанки?
— Ну, конечно, нет! — вскричал он. — Но что это? На конверте стоит штамп моей гостиницы?.. А, понимаю! Должно быть, письмо написал высокий англичанин, который приехал вскоре после вашего ухода. Он сказал, что…
Но я не стал ждать дальнейших объяснений хозяина. Охваченный ужасом, я уже бежал по деревенской улице к той самой горной дорожке, с которой только что спустился.
Спуск к гостинице занял у меня час, и, несмотря на то, что я бежал изо всех сил, прошло еще два, прежде чем я снова достиг Рейхенбахского водопада. Альпеншток Холмса все еще стоял у скалы, возле которой я его оставил, но самого Холмса не было, и я тщетно звал его. Единственным ответом было эхо, гулко повторявшее мой голос среди окружавших меня отвесных скал.
При виде этого альпенштока я похолодел. Значит, Холмс не ушел на Розенлау. Он оставался здесь, на этой дорожке шириной в три фута, окаймленной отвесной стеной с одной стороны и заканчивающейся отвесным обрывом с другой. И здесь его настиг враг. Юного швейцарца тоже не было. По-видимому, он был подкуплен Мориарти и оставил противников с глазу на глаз. А что случилось потом? Кто мог сказать мне, что случилось потом?
Минуты две я стоял неподвижно, скованный ужасом, силясь прийти в себя. Потом я вспомнил о методе самого Холмса и сделал попытку применить его, чтобы объяснить себе разыгравшуюся трагедию. Увы, это было нетрудно! Во время нашего разговора мы с Холмсом не дошли до конца тропинки, и альпеншток указывал на то место, где мы остановились. Черноватая почва не просыхает здесь изза постоянных брызг потока, так что птица — и та оставила бы на ней свой след. Два ряда шагов четко отпечатывались почти у самого конца тропинки. Они удалялись от меня. Обратных следов не было. За несколько шагов от края земля была вся истоптана и разрыта, а терновник и папоротник вырваны и забрызганы грязью. Я лег лицом вниз и стал всматриваться в несущийся поток. Стемнело, и теперь я мог видеть только блестевшие от сырости черные каменные стены да где-то далеко в глубине сверканье бесчисленных водяных брызг. Я крикнул, но лишь гул водопада, чем-то похожий на человеческие голоса, донесся до моего слуха.
Однако судьбе было угодно, чтобы последний привет моего друга и товарища все-таки дошел до меня. Как я уже сказал, его альпеншток остался прислоненным к невысокой скале, нависшей над тропинкой. И вдруг на верхушке этого выступа что-то блеснуло. Я поднял руку, то был серебряный портсигар, который Холмс всегда носил с собой. Когда я взял его, несколько листочков бумаги, лежавших под ним, рассыпались и упали на землю. Это были три листика, вырванные из блокнота и адресованные мне. Характерно, что адрес был написан так же четко, почерк был так же уверен и разборчив, как если бы Холмс писал у себя в кабинете.
A small square of paper fluttered down.

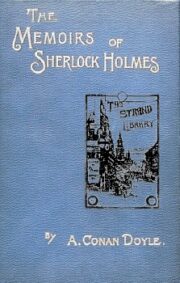




"Записки о Шерлоке Холмсе" отзывы
Отзывы читателей о книге "Записки о Шерлоке Холмсе", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Записки о Шерлоке Холмсе" друзьям в соцсетях.