— Вы хотите сказать, что доктор Бауэрштейн — шпион? — медленно проговорил я.
Пуаро кивнул.
— Вы сами этого не подозревали? — спросил он.
— Никогда! Я и подумать не мог…
— А вам не казалось странным, что знаменитый лондонский специалист похоронил себя в такой деревушке? У вас не вызывала удивления привычка доктора бродить ночью по округе?
— Нет, — признал я. — Даже не обращал на это внимания.
— Он родился в Германии, — задумчиво продолжал Пуаро, — хотя уже так долго занимается практикой в этой стране, что никто о нем не думает иначе как об англичанине. Натурализовался уже лет пятнадцать тому назад. Очень умный человек… разумеется, еврей.
— Мерзавец! — негодующе воскликнул я.
— Ничуть! Напротив, патриот. Подумайте только, что он теряет. Им стоит восхищаться.
Я не мог подойти к этому так же философски, как Пуаро.
— Надо же, и миссис Кавендиш бродила с ним по всей округе! — продолжал я негодовать.
— Да. Полагаю, он находил это знакомство очень полезным, — заметил Пуаро. — Поскольку слухи соединяли их имена вместе, то любые другие выходки доктора проходили незамеченными.
— Значит, вы полагаете, что он никогда по-настоящему ее не любил? — нетерпеливо спросил я… пожалуй, слишком нетерпеливо при подобных обстоятельствах.
— Этого, разумеется, я сказать не могу, однако… Хотите, Гастингс, я выскажу мое личное мнение?
— Да.
— Оно заключается в следующем: миссис Кавендиш не любит и никогда ни на йоту не любила доктора Бауэрштейна!
— Вы действительно так думаете? — Я не мог скрыть удовольствия.
— Вполне в этом уверен. И могу объяснить почему.
— Да?
— Потому что она любит кого-то другого.
— О!
Что имел в виду Пуаро? Но меня помимо моей воли вдруг охватило странное ощущение. Правда, что касается женщин, я не тщеславен, только мне припомнились некоторые обстоятельства, воспринятые мною раньше, пожалуй, слишком легко, однако теперь, казалось, указывавшие…
Мои приятные мысли были прерваны появлением мисс Ховард. Она поспешно огляделась вокруг, чтобы убедиться, что никого другого в комнате нет, затем вынула из кармана старый лист оберточной бумаги и подала его Пуаро.
— Наверху платяного шкафа, — загадочно пробормотала она и поспешно покинула комнату.
Пуаро с нетерпением развернул лист и, удовлетворенно кивнув, разложил его на столе.
— Посмотрите, Гастингс, какая, по-вашему, это буква — «Q» или «L»?
Лист бумаги оказался довольно пыльным, как будто какое-то время лежал открытым. Внимание Пуаро привлекла наклейка, на которой было напечатано: «Господа Паркинсоны, известные театральные костюмеры» и адрес — Кавендиш (инициал непонятен), эсквайр, Стайлз-Корт, Стайлз-Сент-Мэри, Эссекс.
— Это может быть «T» или «L», — сказал я, старательно изучив буквы, — но, конечно, не «Q».
— Хорошо, — подтвердил Пуаро, сворачивая бумагу. — Я согласен с вами, что это «L».
— Откуда это? — полюбопытствовал я. — Важная находка?
— Не очень. Однако она подтверждает мое предположение. Я подозревал о ее существовании и направил мисс Ховард на поиски. Как видите, они оказались успешными.
— Что она имела в виду, говоря: «Наверху платяного шкафа»?
— Хотела сказать, что нашла его именно там, — пояснил Пуаро.
— Странное место для куска оберточной бумаги, — задумчиво произнес я.
— Ничуть. Верх платяного шкафа — отличное место для хранения оберточной бумаги и картонных коробок. Я сам постоянно держу их там. Аккуратно уложенные, они не раздражают глаз.
— Пуаро, — серьезно спросил я, — вы уже пришли к какому-нибудь выводу по поводу этого преступления?
— Да… Я хочу сказать, что знаю, кто его совершил.
— О!
— Но, кроме предположений, у меня, к сожалению, нет никаких доказательств. Разве что… — Неожиданно он схватил меня за руку и потащил вниз, в волнении закричав по-французски: — Мадемуазель Доркас! Un moment, s'il vous plaît![47]
Взволнованная Доркас поспешно вышла из буфетной.
— Дорогая Доркас, у меня появилась идея… маленькая идея… Если она окажется верной — какой чудесный шанс! Скажите, в понедельник, не во вторник, Доркас, а именно в понедельник, за день до трагедии, не случилось ли чего с колокольчиком в спальне миссис Инглторп?
Доркас удивилась:
— Да, сэр, теперь, когда вы напомнили… И правда случилось… Хотя ума не приложу, как вы про это узнали. Должно быть, мыши перегрызли проволочку. Во вторник утром пришел человек и все исправил.
С восторженным возгласом Пуаро схватил меня за руку и потянул в комнату.
— Видите, не нужно искать внешних доказательств… Нет! Достаточно сообразительности. Однако плоть человеческая слаба… Оказавшись на верном пути, испытываешь истинное удовольствие! Ах, друг мой, я словно заново родился! Я бегу! Скачу! — Он и правда выскочил из дома и побежал, подпрыгивая, по краю лужайки.
— Что случилось с вашим знаменитым другом? — послышался голос за моей спиной. Я повернулся и увидел Мэри Кавендиш. Она улыбалась, и я тоже улыбнулся в ответ. — В чем дело?
— Сказать по правде, я и сам не знаю. Пуаро задал Доркас несколько вопросов о колокольчике в спальне миссис Инглторп и пришел в такой восторг от ее ответа, что стал дурачиться. Вы сами видели!
Мэри засмеялась:
— Как странно! Посмотрите, он выходит из калитки. Значит, сегодня больше не вернется?
— Право, не знаю. Я давно отказался от попыток угадать, что он сделает дальше.
— Скажите, мистер Гастингс, ваш друг немного не в себе?
— Честное слово, не знаю! Иногда я уверен, что он безумен как шляпник,[48] но потом, как раз в тот момент, когда, кажется, наступает пик сумасшествия, выясняется, что это его метод.
— Понимаю…
В то утро, несмотря на смех, Мэри была задумчива. Она выглядела серьезной и даже чуть грустной.
Мне пришло в голову, что это удобный случай поговорить с ней о Цинтии. Как мне показалось, я начал довольно тактично, но не успел произнести и нескольких слов, как она решительно меня остановила:
— Не сомневаюсь, мистер Гастингс, вы отличный адвокат, но в данном случае ваш талант пропадает напрасно. Цинтия может не беспокоиться, что встретит с моей стороны недоброжелательство.
Я было попытался, запинаясь, объяснить… Сказал, что надеюсь, она не подумала… Но Мэри снова остановила меня, и ее слова были так неожиданны, что почти вытеснили из моей головы и Цинтию, и ее неприятности.
— Мистер Гастингс, — спросила она, — вы считаете, что мы с мужем счастливы?
Я был захвачен врасплох и пробормотал, что это не мое дело — думать об их отношениях.
— Ну что же, — спокойно заявила Мэри, — ваше это дело или нет, а я вам скажу: мы несчастливы.
Я молчал. Мне показалось, что она не кончила говорить.
Мэри стала медленно ходить взад-вперед по комнате, чуть склонив голову набок. Ее стройная фигура при ходьбе мягко покачивалась. Неожиданно она остановилась и посмотрела на меня.
— Вы ничего обо мне не знаете, не так ли? — спросила она. — Откуда я, кем была, прежде чем вышла замуж за Джона… Короче говоря — ничего! Ну что же, я вам расскажу. Вы будете моим исповедником. По-моему, вы добрый… Да, я в этом уверена.
Нельзя сказать, что это подняло мое настроение, как следовало ожидать. Я вспомнил, что Цинтия начала свою исповедь почти такими же словами. К тому же исповедник, по-моему, должен быть пожилым. Это совсем неподходящая роль для молодого человека.
— Мой отец был англичанином, — начала Мэри, — а мать — русской.
— О! — отреагировал я. — Теперь понятно.
— Что понятно?
— Намек на нечто иностранное… другое… что вас всегда окружает.
— Кажется, моя мать была очень красивой, — продолжила Мэри. — Не знаю, потому что никогда ее не видела. Она умерла, когда я была еще совсем маленькой. По-моему, трагично: кажется, по ошибке выпила слишком большую дозу какого-то снотворного. Как бы там ни было, отец был безутешен. Вскоре после этого он стал работать в консульстве и, куда бы его ни направляли, всегда брал меня с собой. К тому времени как мне исполнилось двадцать три года, я уже объехала почти весь мир. Это была великолепная жизнь… Мне она нравилась. — На лице Мэри появилась улыбка. Откинув голову назад, она, казалось, погрузилась в воспоминания тех старых добрых дней. — Потом умер и отец, — наконец заговорила она. — Он оставил меня плохо обеспеченной. Я вынуждена была жить со старыми тетками в Йоркшире. — Мэри содрогнулась. — Вы поймете, что это была ужасная жизнь для девушки, выросшей и воспитанной так, как я. Узость интересов и невероятная монотонность такой жизни сводили меня с ума. — Она помолчала, а потом совершенно другим тоном добавила: — И тут я встретила Джона Кавендиша.
— И что же?
— С точки зрения моих теток, для меня это была хорошая партия. Но я должна честно признаться, что не думала об этом. Нет! Для меня важным было другое: замужество избавляло меня от невыносимой монотонности той жизни.
Я опять ничего не сказал, и через минуту она продолжила:
— Поймите меня правильно. Я была с Джоном честной. Сказала ему правду, что он мне очень нравится и я надеюсь, это чувство усилится, но я в него не влюблена. Джон заявил, что это его вполне устраивает, и… мы поженились.
Мэри надолго замолчала. Нахмурив лоб, она словно вглядывалась в те ушедшие дни.
— Я думаю… я уверена… сначала Джон любил меня. Но мы, очевидно, плохо подходим друг другу и почти сразу же стали отдаляться. Я Джону надоела. Малоприятно для женской гордости в таком признаваться, но это правда.
Должно быть, я что-то пробормотал о несходстве взглядов, потому что она быстро продолжила:
— О да! Надоела… Но теперь это уже не имеет значения… Теперь, когда наши пути расходятся…



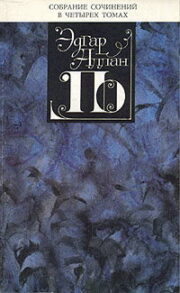
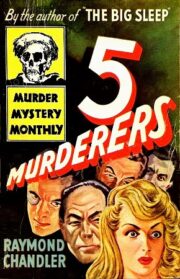
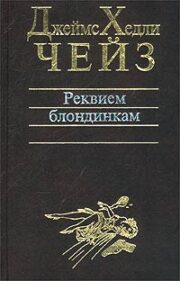
Отличная книга
Всё как я люблю, интересно, интригующе, много версий, много улик, атмосфера старой Англиии… Рекомендую!