– Человек в подвале вам чужой, – говорил он. – Он вошел туда, чтобы сразиться с черной глыбой, как сражаются с диким зверем или со стихией. Рубить уголь в подвале – трудно. Рубить уголь в шахте – опасно. Дикий зверь может убить того, кто войдет в его берлогу. Битва с этим зверем не дает ни отдыха, ни покоя. Бьющийся с ним борется с хаосом, как путешественник, прокладывающий путь в тропическом лесу.
– Мистер Хэнбери, – сказала, улыбаясь, Розамунда, – только что оттуда вернулся.
– Прекрасно, – сказал Брейнтри. – Но если он больше туда не поедет, вы не скажете, что среди путешественников неспокойно.
– Молодец! – весело сказал Хэнбери. – Здорово это вы.
– Разве вы не видите, – продолжал Брейнтри, – что мы для вас – механизм, и вы замечаете нас лишь тогда, когда часы остановятся?
– Кажется, я вас понимаю, – сказала Розамунда, – и не забуду этого.
И впрямь, она не была особенно умной, но принадлежала к тем редким и ценным людям, которые никогда не забывают того, что они усвоили.
Глава 5.
ВТОРОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЖОНА БРЕЙНТРИ
Дуглас Мэррел знал свет. Точнее, он знал свой круг, а тяга к дурному обществу не давала ему подумать, что он знает мир. Тем самым он хорошо понимал, что случилось. Брейнтри загнали сюда, чтобы он смутился и замолчал; однако именно здесь он разговорился. Быть может, к нему отнеслись как к чудищу или к дрессированному зверю, – пресыщенные люди тянутся ко всему новому; но чудище имело успех. Брейнтри говорил много, но был не наглым, а всего лишь убежденным. Мэррел знал свет; и знал, что те, кто много говорит, редко бывают наглыми, ибо не думают о себе.
Сейчас Мэррел знал, что будет. Глупые уже сказали свое слово – те, кто непременно спросит у исследователя полярных стран, понравился ли ему Северный полюс, и рады бы спросить у негра, каково быть черным. Старый делец неизбежно должен был заговорить о политической экономии со всяким, кто покажется ему политиком. Старый осел, то есть Уистер, неизбежно должен был прочесть лекцию о великих викторианцах. Самоучка легко показал им, что он ученей их.
Теперь начиналась следующая фаза. Брейнтри заметили люди другого рода: светские интеллектуалы, не говорящие о делах, беседующие с негром о погоде, завели с синдикалистом спор о синдикализме. После его бурной речи послышался мерный гул, и тихоголосые джентльмены стали задавать ему более связные вопросы, нередко находя более серьезные возражения. Мэррел встряхнулся от удивления, услышав низкий, гортанный голос лорда Идена, надежно хранившего столько дипломатических и парламентских тайн. Он почти никогда не говорил, но сейчас спросил Брейнтри:
– Вам не кажется, что древние кое в чем правы – Аристотель и прочие? Быть может, должен существовать класс людей, работающих на нас в подвале?
Черные глаза его собеседника загорелись не гневом, а радостью – он понял, что его поняли.
– Вот это дело! – сказал он. Многим показалось, что слова его столь же наглы, как если бы он сказал премьеру: «Ну и чушь!» Но старый политик был умен и понял, что его похвалили.
– Если вы примете эту точку зрения, – продолжал Брейнтри, – вы не вправе сетовать на то, что люди, которых вы от себя отделяете, с вами не считаются. Если действительно есть такой класс, стоит ли дивиться, что он обладает классовым сознанием?
– Мне кажется, и другие имеют право на классовое сознание, – с улыбкой сказал Иден.
– Вот именно, – заметил Уистер самым снисходительным тоном. – Аристократ, благородный человек, как говорит Аристотель…
– Позвольте, – с некоторым раздражением прервал Брейнтри. – Я читал Аристотеля в дешевых переводах, но я его читал. А вы все долго учите греческий и не берете в руки греческой книги. Насколько я понимаю, у Аристотеля благородный человек – довольно наглый тип. Но нигде не сказано, что он – аристократ в вашем смысле слова.
– Совершенно верно, – сказал Иден. – Но самые демократические греки признавали рабство. По-моему, можно привести гораздо больше доводов в защиту рабства, чем в защиту аристократии.
Синдикалист почти радостно закивал. Элмерик Уистер растерялся.
– Вот я и говорю, – сказал Брейнтри. – Если вы признаете рабство, вы не можете помешать рабам держаться друг за друга и думать иначе, чем вы. Как воззовете вы к их гражданским чувствам, если они – не граждане? Я – один из них. Я – из подвала. Я представляю здесь мрачных, неотесанных, неприятных людей. Да, я из них, и сам Аристотель не отрицал бы, что я вправе защищать их.
– И вы их защищаете прекрасно, – сказал Иден.
Мэррел мрачно улыбнулся. Мода разгулялась вовсю. Он узнавал все признаки, сопровождающие перемену общественной погоды, обновившей атмосферу вокруг синдикалиста. Он даже слышал знакомые звуки, наносящие последний штрих – воркующий голос леди Бул: «… в любой четверг… будем так рады…»
По-прежнему улыбаясь, Мэррел повернулся и направился в угол, где сидела Оливия. Он видел, что губы у нее сжаты, а темные глаза опасно блестят; и сказал ей с участием:
– Боюсь, что наша шутка вышла боком. Мы думали, он медведь, а он оказался львом.
Она подняла голову и вдруг улыбнулась сияющей улыбкой.
– Он перещелкал их как кегли! – воскликнула она. – Он даже Идена не испугался.
Мэррел глядел на нее, вниз, и на его печальном лице отражалось смущение.
– Удивительно, – сказал он. – Вы как будто гордитесь вашим протеже.
Поглядев еще на ее неисповедимую улыбку, он добавил:
– Да, женщин я не понимаю. Никто их не понимает. Видимо, опасно и пытаться. Но если вы разрешите мне высказать догадку, дорогая Оливия, я замечу, что вы не совсем честны.
И он удалился, как всегда – добродушно и невесело. Гости уже расходились. Когда ушел последний, Дуглас Мэррел помедлил у выхода в сад и пустил последнюю парфянскую стрелу.
– Я не понимаю женщин, – сказал он, – но мужчин я немного понимаю. Теперь вашим ученым медведем займусь я.
Усадьба лорда Сивуда была прекрасна и казалась отрезанной от мира; однако она отстояла всего миль на пять от одного из черных и дымных провинциальных городов, внезапно выросших среди холмов и долин, когда карта Англии покрылась заплатками угольных копей. Этот город, сохранивший имя Милдайка, уже достаточно почернел, но еще не очень разросся. Связан он был не столько с углем, сколько с побочными продуктами, вроде дегтя; в нем было множество фабрик, обрабатывающих этот ценный продукт. Джон Брейнтри жил на одной из самых бедных улиц и считал это неудобным, но единственно уместным, ибо его политическая деятельность главным образом в том и состояла, чтобы связать профессиональный союз шахтеров как таковых с маленькими объединениями, возникшими в побочных отраслях. К этой улице и повернулся он лицом, повернувшись спиной к большой усадьбе, в которой так странно и так бесцельно побывал. Поскольку Иден и Уистер и прочие шишки (как он их назвал бы) укатили в собственных машинах, он особенно гордился тем, что направился сквозь толпу к смешному сельскому омнибусу, совершавшему рейс между усадьбой и городом. Он влез на сиденье и с удивлением увидел, что Дуглас Мэррел лезет вслед за ним.
– Не поделитесь ли омнибусом? – спросил Мэррел, опускаясь на скамью прямо за единственным пассажиром, ибо никто больше этим транспортом не ехал. Оба они оказались на передних сиденьях, и вечерний ветер подул им в лицо, как только омнибус тронулся. По-видимому, это пробудило Брейнтри от забытья, и он вежливо кивнул.
– Понимаете, – сказал Мэррел, – хочется мне посмотреть на ваш угольный подвал.
– Вы не хотели бы, чтоб вас там заперли, – довольно хмуро отвечал Брейнтри.
– Да, я предпочел бы винный погреб, – признал Мэррел. – Другой вариант вашей притчи: пустые и праздные кутят наверху, а упорный звук выбиваемых пробок напоминает им, что я неустанно тружусь во тьме… Нет, правда, вы очень верно все сказали, и мне захотелось взглянуть на ваши мрачные трущобы.
Элмерик Уистер и многие другие сочли бы бестактным напоминать о трущобах тому, кто беднее их. Но Мэррел бестактным не был и не ошибался, когда говорил, что немного понимает мужчин. Он знал, как болезненно самолюбивы самые мужественные из них. Он знал, что синдикалист до безумия боится снобизма, и не стал говорить об его успехе в гостиной. Причисляя его к рабам в подвале, он поддерживал его достоинство.
– Тут все больше делают краски, да? – спросил Мэррел, глядя на лес фабричных труб, медленно выраставший из-за горизонта.
– Тут обрабатывают угольные отбросы, – отвечал Брейнтри. – Из них делают красители, краски, эмали и тому подобное. Мне кажется, при капитализме побочные продукты важнее основных. Говорят, ваш Сивуд нажил миллионы не столько на угле, сколько на дегте – вроде бы из него делают красную краску, которой красят солдатские куртки.
– А не галстуки социалистов? – укоризненно спросил Мэррел. – Джек, я не верю, что свой вы покрасили кровью знатных. Никак не представлю, что вы только что резали нашу старую знать… Потом, меня учили, что у нее кровь голубая. Вполне возможно, что именно вы – ходячая реклама красильных фабрик. Покупайте наши красные галстуки. Все для синдикалиста. Джон Брейнтри, маститый революционер, пишет: «С тех пор, как я ношу…»
– Никто не знает, Дуглас, откуда что берется, – спокойно сказал Брейнтри. – Это и называется свободой печати. Может быть, мой галстук сделали капиталисты; может быть, ваш соткали людоеды.
– Из миссионерских бакенбардов, – предположил Мэррел. – А вы миссионерствуете у этих рабочих?
– Они трудятся в ужасных условиях, – сказал Брейнтри. – Особенно бедняги с красильных, они просто гибнут. Мало-мальски стоящих союзов у них нет, и рабочий день слишком велик.
– Да, много работать нелегко, – согласился Мэррел. – Трудно жить на свете… Верно, Билл?
Быть может, Брейнтри немного льстило, что Мэррел зовет его Джеком; но он никак не мог понять, почему он назвал его Биллом. Он чуть было об этом не спросил, когда странные звуки из темноты напомнили ему, что он забыл еще об одном человеке. По-видимому, Уильямом звался кучер, судя по ответному ворчанию, согласный с тем, что рабочий день пролетариата слишком долог.


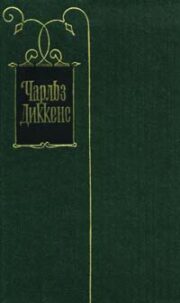

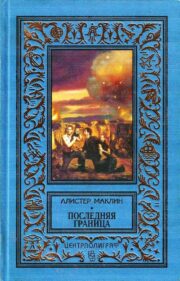
"Возвращение Дон Кихота" отзывы
Отзывы читателей о книге "Возвращение Дон Кихота", автор: Гилберт Кийт Честертон. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Возвращение Дон Кихота" друзьям в соцсетях.